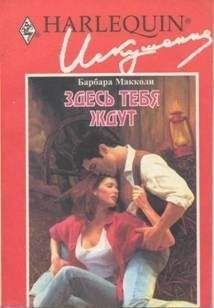Владимир Набоков - Стихотворения
296. РАЗМЕРЫ{*}
Глебу Струве
Что хочешь ты? Чтоб стих твой говорил,
повествовал? Вот мерный амфибрахий…
А хочешь петь — в эоловом размахе
анапеста — звон лютен и ветрил.
Люби тройные отсветы лазури
эгейской — в гулком дактиле; отметь
гекзаметра медлительного медь
и мрамор — и виденье на цезуре.
Затем: двусложных волн не презирай;
есть бубенцы и ласточки в хорее:
он искрится, всё звонче, всё острее,
торопится… А вот — созвучий рай —
резная чаша: ярче в ней, и слаще,
и крепче мысль; играет по краям
блеск, блеск живой! Испей же: это ямб,
ликующий, поющий, говорящий…
297–300. ГЕКСАМЕТРЫ{*}
В жизни чудес не ищи; есть мелочи — родинки жизни;
мелочь такую заметь — чудо возникнет само.
Так мореход, при луне увидавший моржа на утесе,
внуков своих опьянит сказкой о деве морской.
Слезы отри и послушай: в солнечный полдень старый
плотник очки позабыл на своем верстаке. Со смехом
мальчик вбежал в мастерскую; замер; заметил; подкрался;
тронул легкие стекла, и только он тронул — мгновенно
по миру солнечный зайчик стрельнул, заиграл по далеким
пасмурным странам, слепых согревая и радуя зрячих.
Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то
в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав,
скорбно разбилось на песни. Прими же осколки. Не знаю,
кто проходил, подтолкнул: сердце я бережно нес.
Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила.
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем
медном Петре и о диких ветрах африканских — Пушкин
301. ГЕКЗАМЕТРЫ{*}
Памяти В. Д. Набокова
Смерть — это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю,
ты, погруженный в могилу, ты, пробужденный, свободный,
ходишь, сияя незримо, здесь, между нами — до срока спящими…
О, наклонись надо мной, сон мой подслушай —
снятся мне слезы, снятся напевы, снятся молитвы…
Сплю я, раскинув руки, лицом обращенный к звездам:
в сон мой втекает мерцающий свет, оттого-то прозрачны
даже и скорби мои…
Я чую: ты ходишь так близко,
смотришь на спящих: ветер твой нежный целует мне веки,
что-то во сне я шепчу: наклонись надо мной и услышишь
смутное имя одно — что звучнее рыданий, и слаще
песен земных, и глубже молитвы, — имя отчизны.
302. БАРС{*}
Пожаром яростного крапа
маячу в травяной глуши,
где дышит след и росный запах
твоей промчавшейся души.
И в нестерпимые пределы,
то близко, то вдали звеня,
летит твой смех обезумелый
и мучит и пьянит меня.
Луна пылает молодая,
мед каплет на мой жаркий мех;
бьет, скатывается, рыдая,
твой задыхающийся смех.
И в липком сумраке зеленом,
пожаром гибким и слепым,
кружусь я, опьяненный звоном,
полетом, запахом твоим…
Но не уйдешь ты! В полнолунье
в тиши настигну у ручья,
сомну тебя, мое безумье
серебряное, лань моя.
303. НА ОЗЕРЕ{*}
В глазах рябило от резьбы
оранжевой и черной зыби,
и плыл к огню — к библейской глыбе
заката — сумрак из трубы.
И, черный жар и дым мохнатый
следя торжественно с кормы,
следя прибрежный бор зубчатый, —
в очарованье плыли мы.
И Сердце было так прозрачно,
так пел прожженный Богом свод,
что бор, и озеро, и дачный,
дымящий глухо пароход, —
приобретали незаметно
значенье чуда в этот час, —
и в темной зыби женских глаз
плыл и дышал огонь стоцветный.
304. «Живи, звучи, не поминай о чуде…»{*}
Живи, звучи, не поминай о чуде, —
но будет день, войду в твой скромный дом,
твой смех замрет, ты встанешь: стены, люди —
всё поплывет, — и будем мы вдвоем…
Прозреешь ты в тот миг невыразимый,
спадут с тебя, рассыплются, звеня,
стеклом поблескивая дутым, зимы
и весны, прожитые без меня…
Я пламенем моих бессонниц, хладом
моих смятений творческих прильну,
взгляну в тебя — и ты ответишь взглядом
покорным и крылатым в вышину.
Твои плеча закутав в плащ шумящий,
я по небу, сквозь звездную росу,
как через луг некошеный, дымящий,
тебя в свое бессмертье унесу…
305. РОДИНА{*}
Когда из родины звенит нам
сладчайший, но лукавый слух, —
не празднословью, не молитвам
мой предается скорбный дух.
Нет, — не из сердца, вот отсюда,
где боль неукротима, вот —
крылом, окровавленной грудой,
обрубком костяным — встает
мой клекот, клокотанье: Боже,
Ты, отдыхающий в раю, —
на смертном, на проклятом ложе
тронь, воскреси — ее… мою!..
306. «И в Божий рай пришедшие с земли…»{*}
И в Божий рай пришедшие с земли
устали, в тихом доме прилегли…
Летают на качелях серафимы
под яблонями белыми. Скрипят
веревки золотые, Серафимы
кричат взволнованно…
А в доме спят, —
в большом, совсем обыкновенном доме,
где Бог живет, где солнечная лень
лежит на всем; и пахнет в этом доме,
как, знаешь ли, на даче — в первый день…
Потом проснутся; в радостной истоме
посмотрят друг на друга; в сад пройдут —
давным-давно знакомый и любимый…
О, как воздушно яблони цветут!..
О, как кричат, качаясь, серафимы!
307. ЖЕМЧУГ{*}
Посланный мудрейшим властелином
страстных мук изведать глубину,
тот блажен, кто руки сложит клином
и скользнет, как бронзовый, ко дну.
Там, исполнен сумрачного гула,
средь морских свивающихся звезд,
зачерпнет он раковину: чудо
будет в ней, лоснящийся нарост.
И тогда он вынырнет, раздвинув
яркими кругами водный лоск,
и спокойно улыбнется, вынув
из ноздрей побагровевший воск.
Я сошел в свою глухую муку,
я на дне. Но снизу, сквозь струи,
всё же внемлю шелковому звуку
уносящейся твоей ладьи.
308. СОН{*}
Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно
снилось мне, что в пропасти окна
высилась, как череп великана,
костяная, круглая луна.
Снилось мне, что на кровати, криво
выгнувшись под вздутой простыней,
всю подушку заливая гривой,
конь лежал атласно-вороной.
А вверху — часы стенные, с бледным,
бледным человеческим лицом,
поводили маятником медным,
полосуя сердце мне концом.
Сонник мой не знает сна такого,
промолчал, притих перед бедой
сонник мой с закладкой васильковой
на странице, читанной с тобой…
309. «В каком раю впервые прожурчали…»{*}
В каком раю впервые прожурчали
истоки сновиденья моего?
Где жили мы, где встретились вначале,
мое кочующее волшебство?
Неслись века. При Августе из Рима
я выслал в Байи голого гонца
с мольбой к тебе, но ты неуловима
и сказочной осталась до конца.
И не грустила ты, когда при звоне
сирийских стрел и рыцарских мечей
мне снилось: ты — за пряжей, на балконе,
под стражей провансальских тополей.
Среди шелков, левреток, винограда
играла ты, когда я по нагим
волнам в неведомое Эльдорадо
был генуэзским гением гоним.
Ты знаешь, калиостровой науки
мы оправданьем были: годы шли,
вставали за разлуками разлуки
тоской богов и музыкой земли.
И снова в Термидоре одурелом,
пока в тюрьме душа тобой цвела,
а дверь мою тюремщик метил мелом,
ты в Кобленце так весело жила…
И вдоль Невы, всю ночь не спав, раз двести
лепажи зарядив и разрядив,
я шел, веселый, к Делии — к невесте,
все вальсы ей коварные простив.
А после, после, став вполоборота,
так поднимая руку, чтобы грудь
прикрыта локтем, целился в кого-то
и не успел тугой курок пригнуть.
Вставали за разлуками разлуки,
и вновь я здесь, и вновь мелькнула ты,
и вновь я обречен извечной муке
твоей неуловимой красоты…
310. «Я где-то за городом, в поле…»{*}