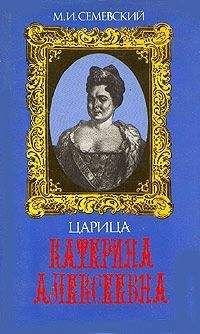Овидий - Наука любви (сборник)
Мирра
Страшное буду я петь. Прочь, дочери, прочь удалитесь
Вы все, отцы! А коль песни мои вам сладостны будут,
Песням не верьте моим, о, не верьте ужасному делу!
Если ж поверите вы, то поверьте и каре за дело.
Ежель свершенье его допустила, однако, природа, —
За исмарийский народ и за нашу я счастлив округу,
Счастлив, что эта земля далеко от краев, породивших
Столь отвратительный грех. О, пусть амомом богаты,
Пусть и корицу, и нард, и из дерева каплющий ладан,
Пусть на Панхайской земле и другие родятся растенья,
Пусть же и мирру растят! Им дорого стала новинка!
Даже Эрот объявил, что стрелой не его пронзена ты,
Мирра; свои он огни от греха твоего отвращает.
Адской лучиной была ты овеяна, ядом ехидны,
Ты из трех фурий одна: преступленье – отца ненавидеть,
Все же такая любовь – преступленье крупней. Отовсюду
Знатные ищут тебя домогатели. Юность Востока
Вся о постели твоей соревнуется. Так избери же,
Мирра, себе одного, но, увы, все в одном сочетались.
Все понимает сама, от любви отвращается гнусной
Мирра, – «Где мысли мои? Что надо мне? – молвит, – о боги!
Ты, Благочестье, и ты, о право священное крови,
Грех запретите, – молю, – преступлению станьте препоной,
Коль преступленье в том есть. Но, по правде сказать, Благочестье
Этой любви не хулит. Без всякого выбора звери
Сходятся между собой; не зазорно бывает ослице
Тылом отца приподнять; жеребцу его дочь отдается,
Коз покрывает козел, от него же рожденных, и птицы
Плод зачинают от тех, чьим семенем зачаты сами.
Счастливы те, кто запретов не знал! Дурные законы
Сам себе дал человек, и то, что природа прощает,
Зависть людская клеймит. Говорят, что такие, однако,
Есть племена, где с отцом сопрягается дочь, или с сыном
Мать, и почтенье у них лишь растет от любви их взаимной.
Горе мое, что не там привелось мне родиться! Вредят мне
Здешних обычаи мест! Но зачем возвращаюсь к тому же?
Прочь, запрещенные, прочь, надежды! Любви он достоин, —
Только дочерней любви! Так, значит, когда бы великий
Не был отцом мне Кинир, то лечь я могла бы с Киниром!
Ныне ж он мой, оттого и не мой. Мне сама его близость
Стала проклятием. Будь я чужой, счастливей была бы!
Лучше далеко уйду и родные покину пределы,
Лишь бы греха избежать. Но соблазн полюбившую держит:
Вижу Кинира я здесь, прикасаюсь к нему, говорю с ним,
Для поцелуя тянусь, – о, пусть не дано остального!
Смеешь на что-то еще уповать, нечестивая дева?
Или не чувствуешь ты, что права и названья смешала?
Или любовью отца и соперницей матери станешь?
Сыну ли старшей сестрой? Назовешься ли матерью брата?
Ты не боишься Сестер, чьи головы в змеях ужасных,
Что, беспощадный огонь к очам и устам приближая,
Грешные видят сердца? Ты, еще непорочная телом,
В душу греха не прими, законы могучей природы
Не помышляй загрязнить недозволенным ею союзом.
Думаешь, хочет и он? Воспротивится! Он благочестен,
Помнит закон. О, когда б им то же безумье владело!»
Молвила так. А Кинир, посреди женихов именитых,
В недоумении, как поступить, обращается к Мирре,
По именам их назвав, – чтоб себе жениха указала.
Мирра сначала молчит, от отцова лица не отводит
Взора, горит, и глаза обливаются влагою теплой.
Но полагает Кинир, – то девичий стыд; запрещает
Плакать, и щеки ее осушает и в губы целует.
Рада она поцелуям его. На вопрос же, – который
Был бы любезен ей муж, – «На тебя, – отвечала, – похожий!»
Он же не понял ее и за речь похваляет: «И впредь ты
Столь же почтительной будь!» И при слове «почтительной» дева,
С мерзостным пылом в душе, головою смущенно поникла.
Ночи средина была. Разрешил и тела и заботы
Сон. Но Кинирова дочь огнем неуемным пылает
И не смыкает очей в безысходном безумье желанья.
Вновь то отчается вдруг, то готова пытаться; ей стыдно,
Но и желанья кипят; не поймет, что ей делать, так мощный
Низко подрубленный ствол, последнего ждущий удара,
Пасть уж готов, неизвестно куда, но грозит отовсюду.
Так же и Мирры душа от ударов колеблется разных
Зыбко туда и сюда, устойчива лишь на мгновенье.
Страсти исход и покой в одном ей мерещится – в смерти.
Смерть ей любезна. Встает и решает стянуть себе петлей
Горло и, пояс уже привязав к перекладине, молвив, —
«Милый, прощай, о Кинир! И знай: ты смерти виновник!» —
Приспособляет тесьму к своему побелевшему горлу.
Ропот ее, – говорят, – долетел до кормилицы верной,
Что по ночам охраняла порог ее спальни. Вскочила
Старая, дверь отперла и, увидев орудие смерти
Подготовляемой, вдруг завопила; себя ударяет
В грудь, раздирает ее и, питомицы вызволив шею,
Рвет тесьму на куски. Тут только слезам отдается;
Мирру она обняла и потом лишь о петле спросила.
Девушка молча стоит, недвижно потупилась в землю.
Горько жалеет она, что попытка нарушена смерти.
Молит старуха, своей сединой заклинает; раскрыла
Ныне пустые сосцы, колыбелью и первою пищей
Молит довериться ей и поведать ей горе; девица
Стонет молящей в ответ. Но кормилица вызнать решила, —
Тайну сулит сохранить и не только – взывает: «Откройся,
Помощь дозволь оказать, – моя не беспомощна старость.
Если безумье в тебе, – исцелят заклинанье и травы;
Если испорчена ты, обрядом очистим волшебным;
Если же гнев от богов, – умиряется жертвами гнев их.
Что же полезней еще предложу? И участь и дом твой
Счастливы, все хорошо; мать здравствует, жив и родитель!»
Лишь услыхав об отце, испустила глубокие вздохи
Мирра. Кормилица все ж и теперь греха никакого
Не заподозрила, но о какой-то любви догадалась.
Крепко решив разузнать, что б ни было, – молит поведать
Все, на старую грудь привлекает льющую слезы
Деву, сжимает в руках своих немощных, так говоря ей:
«Вижу я: ты влюблена; но – откинь опасенья! – полезной
Буду пособницей я в том деле. Отец не узнает
Тайны!» Но злобно она отскочила от старой, припала
К ложу лицом, – «Уйди, я прошу, над стыдом моим горьким
Сжалься, – сказала, – уйди, – настойчивей молвила, – или
Спрашивать брось, отчего я больна: лишь грех ты узнаешь».
В ужасе та, от годов и от страха дрожащие руки
К ней простирает с мольбой, питомице падает в ноги.
То ей пытается льстить, то пугает на случай, коль тайны
Та не откроет, грозит ей уликой тесьмы и попытки
Кончить с собой; коль откроет любовь, обещает ей помощь.
Голову та подняла, и внезапные залили слезы
Старой кормилицы грудь; и, не раз порываясь признаться,
Речь пресекает она; застыдившись, лицо закрывает
Платьем и молвит, – «О, как моя мать осчастливлена мужем!»
Смолкла и стон издала. Кормилица похолодела,
Чувствует – ужас проник до костей в ее члены. Поднявшись,
Волосы встали торчком на ее голове поседелой.
Много добавила слов, чтобы та – если сможет – извергла
Злую любовь. Хоть совет и хорош, повторяет девица,
Что не отступит, умрет, коль ей не достанется милый!
Та же в ответ ей, – «Живи, овладеешь своим…» – не решилась
Молвить «отцом» и молчит; обещанья же клятвой скрепляет.
Праздник Цереры как раз благочестные славили жены,
Тот, ежегодный, когда, все окутаны белым, к богине
Связки колосьев несут, своего урожая початки.
Девять в то время ночей почитают запретной Венеру,
Не допускают мужчин. Кенхреида, покинув супруга,
Вместе с толпою ушла посетить тайнодейства святые.
Благо законной жены на супружеском не было ложе,
Пьяным Кинира застав, на беду, расторопная нянька,
Имя другое назвав, неподдельную страсть описала
Девы, красу расхвалила ее; спросил он про возраст.
«С Миррой, – сказала, – одних она лет». И когда приказал он
Деву ввести, возвратилась домой. «Ликуй, – восклицает, —
Доченька! Мы победили!» Но та ощущает неполной
Эту победу свою. Сокрушается грудь от предчувствий.
Все же ликует она: до того в ней разлажены чувства.
Час наступил, когда все замолкает; промежду Трионов,
Дышло скосив, Боот поворачивать начал телегу.
И к преступленью она подступила. Златая бежала
С неба луна. Облаков чернотой закрываются звезды.
Темная ночь – без огней. О Икар, ты лицо закрываешь!
Также и ты, Эригона, к отцу пылавшая свято!
Трижды споткнулась, – судьба призывала обратно. Три раза
Филин могильный давал смертельное знаменье криком.
Все же идет. Темнота уменьшает девичью стыдливость.
Левою держит рукой кормилицы руку; другая
Ищет во мраке пути; порога уж спальни коснулась.
Вот открывает и дверь; и внутрь вошла. Подкосились
Ноги у ней, колена дрожат. От лица отливает
Кровь, – румянец бежит, сейчас она чувства лишится.
Чем она ближе к беде, тем страх сильней; осуждает
Смелость свою и назад возвратиться неузнанной жаждет.
Медлит она, но старуха влечет; к высокому ложу
Деву уже подвела и вручает, – «Бери ее! – молвит, —
Стала твоею, Кинир!» – и позорно тела сопрягает.
Плоть принимает свою на постыдной постели родитель,
Гонит девический стыд, уговорами страх умеряет.
Милую, может быть, он называет по возрасту «дочка»,
Та же «отец» говорит, – с именами страшнее злодейство!
Полной выходит она от отца; безбожное семя —
В горькой утробе ее, преступленье зародышем носит.
Грех грядущая ночь умножает, его не покончив.
И лишь когда наконец пожелал, после стольких соитий,
Милую он распознать, и при свете внесенном увидел
Сразу и грех свой и дочь, разразился он возгласом муки
И из висящих ножен исторг блистающий меч свой.
Мирра спаслась; темнота беспросветная ночи убийство
Предотвратила. И вот, пробродив по широким равнинам,
Пальмы арабов она и Панхаи поля покидает.
Девять блуждает потом завершающих круг полнолуний.
И, утомясь наконец, к земле приклонилась Сабейской.
Бремя насилу несла; не зная, о чем ей молиться,
Страхом пред смертью полна, тоской удрученная жизни,
Так обратилась к богам, умоляя: «О, если признаньям
Верите вы, божества, – заслужила печальной я казни
И не ропщу. Но меня – чтоб живой мне живых не позорить,
Иль, умерев, мертвецов – из обоих вы царств изгоните!
Переменивши меня, откажите мне в жизни и смерти!»
Боги признаньям порой внимают: последние просьбы
Мирры нашли благосклонных богов: ступни у молящей
Вот покрывает земля; из ногтей расщепившихся корень
Стал искривленный расти, – ствола молодого опора;
Сделалась деревом кость; остался лишь мозг в сердцевине.
В сок превращается кровь, а руки – в ветви большие,
В малые ветви – персты; в кору – затвердевшая кожа.
Дерево полный живот меж тем, возрастая, сдавило;
Уж охватило и грудь, закрыть уж готовилось шею.
Медлить не стала она, и навстречу коре подступившей
Съежилась Мирра, присев, и в кору головой погрузилась.
Все же, хоть телом она и утратила прежние чувства, —
Плачет, и все из ствола источаются теплые капли.
Слезы те – слава ее. Корой источенная мирра
Имя хранит госпожи, и века про нее не забудут.
Адонис