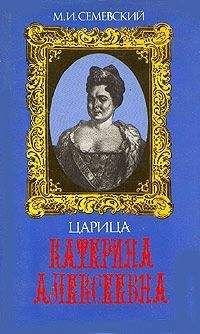Овидий - Наука любви (сборник)
Орфей
После, шафранным плащом облаченный, по бездне воздушной
Вновь отлетел Гименей, к брегам отдаленным киконов
Мчится – его не к добру призывает там голос Орфея.
Все-таки бог прилетел; но с собой ни торжественных гимнов
Он не принес, ни ликующих лиц, ни счастливых предвестий.
Даже и светоч в руке Гименея трещит лишь и дымом
Едким чадит и, колеблясь, никак разгореться не может.
Но тяжелей был исход, чем начало. Жена молодая,
В сопровожденье наяд по зеленому лугу блуждая, —
Мертвою пала, в пяту уязвленная зубом змеиным.
Вещий родопский певец, обращаясь к Всевышним, супругу
Долго оплакивал. Он обратиться пытался и к теням,
К Стиксу дерзнул он сойти, Тенарийскую щель миновал он,
Сонмы бесплотных теней, замогильные призраки мертвых,
И к Персефоне проник и к тому, кто в безрадостном царстве
Самодержавен, и так, для запева ударив по струнам,
Молвил: «О вы, божества, чья вовек под землею обитель,
Здесь, где окажемся все, сотворенные смертными! Если
Можно, отбросив речей извороты лукавых, сказать вам
Правду, дозвольте. Сюда я сошел не с тем, чтобы мрачный
Тартар увидеть, не с тем, чтоб чудовищу, внуку Медузы,
Шею тройную связать, с головами, где вьются гадюки.
Ради супруги пришел. Стопою придавлена, в жилы
Яд ей змея излила и похитила юные годы.
Горе хотел я стерпеть. Старался, но побежден был
Богом Любви: хорошо он в пределах известен наземных, —
Столь же ль и здесь – не скажу; уповаю, однако, что столь же.
Если не лжива молва о былом похищенье, – вас тоже
Соединила Любовь! Сей ужаса полной юдолью,
Хаоса бездной молю и безмолвьем пустынного царства:
Вновь Эвридики моей заплетите короткую участь!
Все мы у вас должники; помедлив недолгое время,
Раньше ли, позже ли – все в приют поспешаем единый.
Все мы стремимся сюда, здесь дом наш последний; вы двое
Рода людского отсель управляете царством обширным.
Так и она: лишь ее положенные годы созреют,
Будет под властью у вас: возвращенья прошу лишь на время.
Если же милость судеб в жене мне откажет, отсюда
Пусть я и сам не уйду: порадуйтесь смерти обоих».
Внемля, как он говорит, как струны в согласии зыблет,
Души бескровные слез проливали потоки. Сам Тантал
Тщетно воды не ловил. Колесо Иксионово стало.
Птицы печень клевать перестали; Белиды на урны
Облокотились; и сам, о Сизиф, ты уселся на камень!
Стали тогда Эвменид, побежденных пеньем, ланиты
Влажны впервые от слез, – и уже ни царица-супруга,
Ни властелин преисподних мольбы не исполнить не могут.
Вот Эвридику зовут; меж недавних теней пребывала,
А выступала едва замедленным раною шагом.
Принял родопский герой нераздельно жену и условье:
Не обращать своих взоров назад, доколе не выйдет
Он из Авернских долин, – иль отымется дар обретенный.
Вот уж в молчанье немом по наклонной взбираются оба
Темной тропинке, крутой, густою укутанной мглою.
И уже были они от границы земной недалеко, —
Но, убоясь, чтоб она не отстала, и в жажде увидеть,
Полный любви, он взор обратил, и супруга – исчезла!
Руки простер он вперед, объятья взаимного ищет,
Но понапрасну – одно дуновенье хватает несчастный.
Смерть вторично познав, не пеняла она на супруга.
Да и на что ей пенять? Иль разве на то, что любима?
Голос последним «прости» прозвучал, но почти не достиг он
Слуха его; и она воротилась в обитель умерших.
Смертью двойною жены Орфей поражен был, – как древле
Тот, устрашившийся пса с головами тремя, из которых
Средняя с цепью была, и не раньше со страхом расстался,
Нежель с природой своей, – обратилася плоть его в камень!
Или как оный Олен, на себя преступленье навлекший,
Сам пожелавший вины; о Летея несчастная, слишком
Ты доверяла красе: приникавшие прежде друг к другу
Груди – утесы теперь, опорой им влажная Ида.
Он умолял и вотще переплыть порывался обратно, —
Лодочник не разрешил; однако семь дней неотступно,
Грязью покрыт, он на бреге сидел без Церерина дара.
Горем, страданьем души и слезами несчастный питался.
И, бессердечьем богов попрекая подземных, ушел он
В горы Родопы, на Гем, поражаемый северным ветром.
Вот созвездием Рыб морских заключившийся третий
Год уж Титан завершил, а Орфей избегал неуклонно
Женской любви. Оттого ль, что к ней он желанье утратил
Или же верность хранил – но во многих пылала охота
Соединиться с певцом, и отвергнутых много страдало.
Стал он виной, что за ним и народы фракийские тоже,
Перенеся на юнцов недозрелых любовное чувство,
Краткую жизни весну, первины цветов обрывают.
Кипарис
Некий был холм, на холме было ровное плоское место;
Все зеленело оно, муравою покрытое. Тени
Не было вовсе на нем. Но только лишь сел на пригорок
Богорожденный певец и ударил в звонкие струны,
Тень в то место пришла: там Хаонии дерево было,
Роща сестер Гелиад, и дуб, вознесшийся в небо;
Мягкие липы пришли, безбрачные лавры и буки,
Ломкий пришел и орех, и ясень, пригодный для копий,
Несуковатая ель, под плодами пригнувшийся илик,
И благородный платан, и клен с переменной окраской;
Лотос пришел водяной и по рекам растущие ивы,
Букс, зеленый всегда, тамариск с тончайшей листвою;
Мирта двухцветная там, в плодах голубых лавровишня;
С цепкой стопою плющи, появились вы тоже, а с вами
И винограда лоза, и лозой оплетенные вязы;
Падубы, пихта, а там и кусты земляничника с грузом
Алых плодов, и награда побед – гибколистная пальма;
С кроной торчащей пришли подобравшие волосы сосны, —
Любит их Матерь богов, ибо некогда Аттис Кибелин,
Мужем здесь быть перестав, в стволе заключился сосновом.
В этом же сомнище был кипарис, похожий на мету,
Деревом стал он, но мальчиком был в то время, любимцем
Бога, что лука струной и струной управляет кифары.
Жил на картийских брегах, посвященный тамошним нимфам,
Ростом огромный олень; широко разветвляясь рогами,
Голову сам он себе глубокой окутывал тенью.
Златом сияли рога. К плечам опускалось, свисая
С шеи точеной его, ожерелье камней самоцветных.
А надо лбом его шар колебался серебряный, тонким
Был он привязан ремнем. Сверкали в ушах у оленя
Около впадин висков медяные парные серьги.
Страха не зная, олень, от обычной свободен боязни,
Часто, ничуть не дичась, и в дома заходил, и для ласки
Шею свою подставлял без отказа руке незнакомой.
Боле, однако, всего, о прекраснейший в племени Кеи,
Был он любезен тебе, Кипарис. Водил ты оленя
На молодые луга и к прозрачной источника влаге.
То оплетал ты цветами рога у животного или,
Всадником на спину сев, туда и сюда направляя
Нежные зверя уста пурпурной уздой, забавлялся.
Знойный был день и полуденный час; от горячего солнца
Гнутые грозно клешни раскалились набрежного Рака,
Раз, притомившись, лег на лужайку со свежей травою
Чудный олень и в древесной тени наслаждался прохладой.
Неосторожно в тот миг Кипарис проколол его острым
Дротом; и, видя, что тот умирает от раны жестокой,
Сам умереть порешил. О, каких приводить утешений
Феб не старался! Чтоб он не слишком скорбел об утрате,
Увещевал, – Кипарис все стонет! И в дар он последний
Молит у Вышних – чтоб мог проплакать он целую вечность.
Вот уже кровь у него от безмерного плача иссякла,
Начали члены его становиться зелеными; вскоре
Волосы, вкруг белоснежного лба ниспадавшие прежде,
Начали прямо торчать и, сделавшись жесткими, стали
В звездное небо смотреть своею вершиною тонкой.
И застонал опечаленный бог. «Ты, оплаканный нами,
Будешь оплакивать всех и пребудешь с печальными!» – молвил.
Гиацинт
Так же тебя, Амиклид, Аполлон поселил бы в эфире,
Если б туда поселить разрешили печальные судьбы.
Выход дозволен иной – бессмертен ты стал. Лишь прогонит
Зиму весна и Овен водянистую Рыбу заступит,
Ты появляешься вновь, распускаясь на стебле зеленом.
Более всех ты отцом был возлюблен моим. Понапрасну
Ждали владыку тогда – земли средоточие – Дельфы.
Бог на Эвроте гостил в то время, в неукрепленной
Спарте. Ни стрелы уже у него не в почете, ни лира;
Сам он себя позабыл; носить готов он тенета
Или придерживать псов, бродить по хребтам неприступным
Ловчим простым. Свой пыл питает привычкою долгой.
Был в то время Титан в середине меж ночью грядущей
И отошедшей, – от них находясь в расстоянии равном.
Скинули платье друзья и, масляным соком оливы
Лоснясь, готовы уже состязаться в метании диска.
Первый метнул, раскачав, по пространству воздушному круг свой
Феб, и пред ним облака разделились от тяжести круга;
Времени много спустя, упадает на твердую землю
Тяжесть, паденьем явив сочетанье искусства и силы.
Неосторожный тогда, любимой игрой возбуждаем,
Круг подобрать поспешил тенариец. Но вдруг содрогнулся
Воздух, и с крепкой земли диск прянул в лицо тебе прямо,
О Гиацинт! Побледнели они одинаково оба —
Отрок и бог. Он в объятия взял ослабевшее тело.
Он согревает его, отирает плачевные раны,
Тщится бегство души удержать, траву прилагая.
Все понапрасну: ничем уж его исцелить невозможно.
Так в орошенном саду фиалки, и мак, и лилея,
Ежели их надломить, на стебле пожелтевшем оставшись,
Вянут и долу свои отягченные головы клонят;
Прямо держаться нет сил, и глядят они маковкой в землю.
Так неподвижен и лик умирающий; силы лишившись,
Шея, сама для себя тяжела, к плечу приклонилась.
«Гибнешь, увы, Эбалид, обманутый юностью ранней! —
Феб говорит. – Эта рана твоя – мое преступленье.
Ты – моя скорбь, погублен ты мной; с моею десницей
Смерть да свяжут твою: твоих похорон я виновник!
В чем же, однако, вина? Так, значит, виной называться
Может игра? Так может виной и любовь называться?
О, если б жизнь за тебя мне отдать или жизни лишиться
Вместе с тобой! Но меня роковые связуют законы.
Вечно ты будешь со мной, на устах незабывших пребудешь;
Лиры ль коснется рука – о тебе запоют мои песни.
Будешь ты – новый цветок – мои стоны являть начертаньем.
После же время придет, и славный герой заключится
В тот же цветок, и прочтут лепестком сохраненное имя».
Так говорят Аполлона уста, предрекая правдиво, —
Кровь между тем, что разлившись вокруг, мураву запятнала,
Кровью уже не была: блистательней червени тирской
Вырос цветок. У него – вид лилии, если бы только
Не был багрян у него лепесток, а у лилий – серебрян.
Мало того Аполлону; он сам, в изъявленье почета,
Стоны свои на цветке начертал: начертано «Ай, ай!»
На лепестках у него, и явственны скорбные буквы.
Спарте позора в том нет, что она родила Гиацинта;
Чтут и доныне его; что ни год, по обычаю предков
Славят торжественно там Гиацинтии – праздник весенний.
Пигмалион