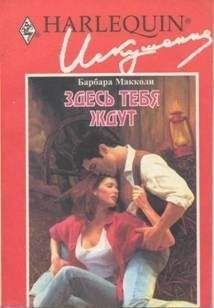Владимир Набоков - Стихотворения
258. РЕВОЛЮЦИЯ{*}
Я слово длинное с нерусским окончаньем
нашел нечаянно в рассказе для детей,
и отвернулся я со странным содроганьем.
В том слове был извив неведомых страстей:
рычанье, вопли, свист, нелепые виденья,
стеклянные глаза убитых лошадей,
кривые улицы, зловещие строенья,
кровавый человек, лежащий на земле,
и чьих-то жадных рук звериные движенья…
А некогда читать так сладко было мне
о зайчиках смешных со свинками морскими,
танцующих на пнях весною, при луне!
Но слово грозное над сказками моими
как пронеслось! Нет прежней простоты:
и мысли страшные ночами роковыми
шуршат, как старые газетные листы!
259. «Вечер тих. Я жду ответа…»{*}
Вечер тих. Я жду ответа.
Светит око Магомета.
Светит вышка минарета
На оранжевой черте.
Безрассудно жду ответа,
К огневой стремясь мечте.
Муэдзина песнь допета.
Розы дымки, розы света
Увядают в высоте.
Я взываю. Нет ответа…
260. БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН{*}
(Памяти Пушкина)
Он здесь однажды был. Вода едва журчит.
На камне свет лежит белеющим квадратом.
Шныряют ласточки под сводом полосатым.
Я чую прошлое: но сердца не пленит
Фонтана вечный плач; ни страшные виденья,
Ни тени томных жен, скользящих меж цветов,
Ни роскошь темная тех сказочных веков,
Мне ныне чудятся и будят вдохновенье.
О нет! Иных времен я слышу тайный зов.
Я вижу здесь его в косой полоске света, —
Густые волосы и резкие черты
И на руке кольцо, не спасшее поэта.
И на челе его — тень творческой мечты.
В святом предчувствии своих грядущих песен
Он — тихий — здесь стоял, и — как теперь, — тогда
Носились ласточки, и зеленела плесень
На камнях вековых, и капала вода.
261. РОССИЯ{*}
Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье…
Я дивно одинок. Ни звука, ни луча…
Ночь за оконницей безмолвна, как изгнанье,
черна, как совесть палача.
Мой рай уже давно и срублен, и распродан…
Я рос таинственно в таинственном краю,
но Бог у юного, небрежного народа
Россию выхолил мою.
Рабу стыдливую, поющую про зори
свои дрожащие, увел он в темноту
и в ужасе ее, терзаньях и позоре
познал восторга полноту.
Он груди вырвал ей, глаза святые выжег,
и что ей пользы в том, что в тишь ее равнин
польется ныне смрад от угольных изрыжек
Европой пущенных машин?
Напрасно ткут они, напрасно жнут и веют,
развозят по Руси и сукна, и зерно:
она давно мертва, и тленом ветры веют,
и всё, что пело, сожжено.
Он душу в ней убил. Хватил с размаху о пол
младенца теплого. Вдавил пятою в грязь
живые лепестки и, скорчившись, захлопал
в ладоши, мерзостно смеясь.
Он душу в ней убил — всё то, что распевало,
тянулось к синеве, плясало по лесам,
всё то, что при луне над водами всплывало,
всё, что прочувствовал я сам.
Всё это умерло. Христу ли, Немезиде
молиться нам теперь? Дождемся ли чудес?
Кто скажет наконец лукавому: изыди?
Кого послушается бес?
Всё это умерло, и всё же вдохновенье
волнуется во мне, — сгораю, но пою.
Родная, мертвая, я чаю воскресенья
и жизнь грядущую твою!
262. АКРОПОЛЬ{*}
Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?
Кто там поет пред мрамором богини?
Ты, мысль моя. В резной тени колонн
как бы звенят порывы дивных линий.
Я рад всему. Струясь в Эректеон,
мне льстит лазурь и моря блеск павлиний;
спускаюсь вниз, и вот запечатлен
в пыли веков мой след — от солнца синий.
Во мглу, во глубь хочу на миг сойти,
там, чудится: по млечному пути
былых времен, сквозь сумрак молчаливый
в певучем сне таинственно летишь…
О, как свежа, благоговейна тишь…
в святилище, где дышит тень оливы!
263. ПАНИХИДА{*}
Сколько могил,
Сколько могил,
Ты — жестока, Россия!
Родина, родина, мы с упованьем,
Сирые, верные, греем последним дыханьем
Ноги твои ледяные.
Хватит ли сил?
Хватит ли сил?
Ты давно ведь ослепла…
В сумрачной церкви поют и рыдают.
Нищие, сгорбясь у входа, тебя называют
Облаком черного пепла.
Капает воск,
Капает воск
И на пальцах твердеет.
Стонет старик пред иконою смуглой.
Глухо молитву поют; звук тяжелый и круглый
Катится, медлит, немеет…
Капает воск,
Капает воск,
Как слеза за слезою.
Плещет кадило пред мертвым, пред гробом.
Родина, родина! Ты исполинским сугробом
Встала во мгле надо мною.
Мрак обступил,
Мрак обступил…
Неужели возможно
Верить еще? Да, мы верим, мы верим
И оскорбленной мечтою грядущее мерим…
Верим, но сердце — тревожно.
Сколько могил,
Сколько могил,
Ты — жестока, Россия!
Слышишь ли, видишь ли? Мы с упованьем,
Сирые, верные, — греем последним дыханьем
Ноги твои ледяные.
264. У КАМИНА{*}
Ночь. И с тонким чешуйчатым шумом
зацветающие угольки
расправляют в камине угрюмом
огневые свои лепестки.
И гляжу я, виски зажимая,
в золотые глаза угольков,
я гляжу, изумленно внимая
голосам моих первых стихов.
Серафимом незримым согреты,
оживают слова как цветы:
узнаю понемногу приметы
вдохновившей меня красоты;
воскрешаю я всё, что, бывало,
хоть на миг умилило меня:
ствол сосны пламенеющий, алый
на закате июльского дня…
265. БЕЖЕНЦЫ{*}
Я объездил, о Боже, Твой мир,
оглядел, облизал, — он, положим,
горьковат… Помню пыльный Каир:
там сапожки я чистил прохожим…
Также помню и бойкий Бостон,
где плясал на кабацких подмостках…
Скучно, Господи! Вижу я сон,
белый сон о каких-то березках…
Ах, когда-нибудь райскую весть
я примечу в газетке раскрытой,
и рванусь, и без шапки, как есть,
возвращусь я в мой город забытый!
Но, увы, приглянувшись к нему,
не узнаю… и скорчусь от боли;
даже вывесок я не пойму:
по-болгарски написано, что ли…
Поброжу по садам, площадям,
большеглазый, в поношенном фраке…
«Извините, какой это храм?»
И мне встречный ответит: «Исакий».
И друзьям он расскажет потом:
«Иностранец пристал, всё дивился…»
Буду новое чуять во всем
и томиться, как вчуже томился…
266. ПОЭТ{*}
Являюсь в черный день родной моей земли,
поблекшие сердца в пыли поникли долу…
Но, с детства преданный глубокому глаголу,
нам данному затем, чтоб мыслить мы могли,
как мыслят яркие клубящиеся воды, —
я всё же, в этот век поветренных скорбей,
молюсь величию и нежности природы,
в земную верю жизнь, угадывая в ней
дыханье Божие, лазурные просветы,
и славлю радостно творенье и Творца,
да будут злобные, пустынные сердца
моими песнями лучистыми согреты…
267. РОССИИ{*}
Не предаюсь пустому гневу,
не проклинаю, не молю;
как изменившую мне деву,
отчизну прежнюю люблю.
Но как я одинок, Россия!
Как далеко ты отошла!
А были дни ведь и другие:
ты сострадательной была.
Какою нежностью щемящей;
какою страстью молодой
звенел в светло-зеленой чаще
смех пробуждающийся твой!
Я целовал фиалки мая —
глаза невинные твои, —
и лепестки, всё понимая,
чуть искрились росой любви…
И потому, моя Россия,
не смею гневаться, грустить…
Я говорю: глаза такие
у грешницы не могут быть!
268. ТИХАЯ ОСЕНЬ{*}