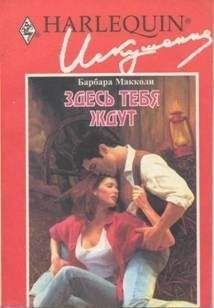Владимир Набоков - Стихотворения
248. СНЕГ{*}
О, этот звук! По снегу —
скрип, скрип, скрип —
в валенках кто-то идет.
Толстый крученый лед
остриями вниз с крыши повис.
Снег скрипуч и блестящ.
(О, этот звук!)
Салазки сзади не тащатся —
сами бегут, в пятки бьют.
Сяду и съеду
по крутому, по ровному:
валенки врозь,
держусь за веревочку.
Отходя ко сну,
всякий раз думаю:
может быть, удосужится
меня посетить
тепло одетое, неуклюжее
детство мое.
249. ФОРМУЛА{*}
Сутулится на стуле
беспалое пальто.
Потемки обманули,
почудилось не то.
Сквозняк прошел недавно,
и душу унесло
в раскрывшееся плавно
стеклянное число.
Сквозь отсветы пропущен
сосудов цифровых,
раздут или расплющен
в алембиках кривых,
мой дух преображался:
на тысячу колец,
вращаясь, размножался
и замер наконец
в хрустальнейшем застое,
в отличнейшем Ничто,
а в комнате пустое
сутулится пальто.
250. НЕОКОНЧЕННЫЙ ЧЕРНОВИК{*}
Поэт, печалью промышляя,
твердит прекрасному: прости.
Он говорит, что жизнь земная —
слова на поднятой в пути —
откуда вырванной? — странице
(не знаем и швыряем прочь)
или пролет мгновенный птицы
чрез светлый зал из ночи в ночь.
Зоил (пройдоха величавый,
корыстью занятый одной)
и литератор площадной
(тревожный арендатор славы)
меня страшатся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь мою я взвесил
на пушкинских весах и честь
осмеливаюсь предпочесть.
251. БЕЗУМЕЦ{*}
В миру фотограф уличный, теперь же
царь и поэт, парнасский самодержец
(который год сидящий взаперти),
он говорил:
«Ко славе низойти
я не желал. Она сама примчалась.
Уж я забыл, где муза обучалась,
но путь ее был прям и одинок.
Я не умел друзей готовить впрок,
из лапы льва не извлекал занозы.
Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы.
Блаженный жребий. Как мне дорога
унылая улыбочка врага.
Люблю я неудачника тревожить,
сны обо мне мучительные множить
и теневой рассматривать скелет
завистника прозрачного на свет.
Когда луну я балую балладой,
волнуются деревья за оградой,
вне очереди торопясь попасть
в мои стихи. Доверена мне власть
над всей землей, Соседу непослушной.
И счастие так ширится воздушно,
так полнится сияньем голова,
такие совершенные слова
встречают мысль и улетают с нею,
что ничего записывать не смею.
Но иногда — другим бы стать, другим!
О, поскорее! Плотником, портным,
а то еще — фотографом бродячим:
как в старой сказке жить, ходить по дачам,
снимать детей пятнистых в гамаке,
собаку их и тени на песке».
252. ОКО{*}
К одному исполинскому оку
без лица, без чела и без век,
без телесного марева сбоку
наконец-то сведен человек.
И, на землю без ужаса глянув
(совершенно не схожую с той,
что, вся пегая от океанов,
улыбалась одною щекой),
он не горы там видит, не волны,
не какой-нибудь яркий залив
и не кинематограф безмолвный
облаков, виноградников, нив;
и, конечно, не угол столовой
и свинцовые лица родных —
ничего он не видит такого
в тишине обращений своих.
Дело в том, что исчезла граница
между вечностью и веществом,
и на что неземная зеница,
если вензеля нет ни на чем?
253. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЯМБЫ{*}
В последний раз лиясь листами
между воздушными перстами
и проходя перед грозой
от зелени уже настойчивой
до серебристости простой,
олива бедная, листва
искусства, плещет, и слова
лелеять бы уже не стоило,
если б не зоркие глаза
и одобрение бродяги,
если б не лилия в овраге,
если б не близкая гроза.
254. КАКОЕ СДЕЛАЛ Я ДУРНОЕ ДЕЛО{*}
Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей.
О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как от яда в полом изумруде,
мрут от искусства моего.
Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.
255. С СЕРОГО СЕВЕРА{*}
С серого севера
вот пришли эти снимки.
Жизнь успела не все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
вырастает из дымки.
Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами. Оредежь.
Отовсюду почти
мне к себе до сих пор еще
удалось бы пройти.
Так, бывало, купальщикам
на приморском песке
приносится мальчиком
кое-что в кулачке.
Всё, от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово —
зеленоватого,
он приносит торжественно.
Вот это Батово.
Вот это Рожествено.
СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ
256. ПРОГУЛКА С J.-J. ROUSSEAU[11]{*}
Посв<ящается> Александру Николаевичу Бенуа
Сад Le Nôtre'a. В лазурных прудах —
отраженья дельфинов и статуй:
он идет по аллее стрельчатой
с маргариткой и книгой в руках;
и, мечтая о новом «Emile»,
он любуется стройностью сада.
Средь притворств витьеватых — отрада —
этот строгий, размерный стиль.
У фонтана — прямые партеры.
Чуть насмешливо смотрит Rousseau,
как жеманно играют в cerceau[12]
две маркизы и два кавалера.
257. ЗИМНЯЯ НОЧЬ{*}
1 Зимнею лунною ночью молчанье
Кажется ровным дыханьем небес…
В воздухе — бледных лучей обаянье…
Благословенные лунным сияньем,
Дремлют аллея, и поле, и лес…
2 Лыжи упругие сладко скрипят;
Длинная синяя тень провожает…
Липы, как призраки черные в ряд,
Странные, грустные, в инее спят…
Мягко сугробы луна освещает.
3 Царственно круглое белое пламя
Смотрит на поле, на снежную гладь…
Зайца спугну за нагими кустами;
Гладь нарушая тройными следами,
Он пропадет… и безмолвно опять.
4 Нивой пойду… Беспредельна она…
Воздух хрустально-морозный целую…
Небо — сиянье, земля — тишина…
В этом безмолвии смерти и сна
Ясной душой я бессмертие чую.
258. РЕВОЛЮЦИЯ{*}
Я слово длинное с нерусским окончаньем
нашел нечаянно в рассказе для детей,
и отвернулся я со странным содроганьем.
В том слове был извив неведомых страстей:
рычанье, вопли, свист, нелепые виденья,
стеклянные глаза убитых лошадей,
кривые улицы, зловещие строенья,
кровавый человек, лежащий на земле,
и чьих-то жадных рук звериные движенья…
А некогда читать так сладко было мне
о зайчиках смешных со свинками морскими,
танцующих на пнях весною, при луне!
Но слово грозное над сказками моими
как пронеслось! Нет прежней простоты:
и мысли страшные ночами роковыми
шуршат, как старые газетные листы!
259. «Вечер тих. Я жду ответа…»{*}