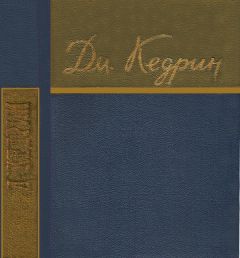Александр Блок - Том 3. Стихотворения и поэмы 1907–1921
10 декабря 1919
«Хотел я, воротясь домой…»
Хотел я, воротясь домой,
Писать в альбом в стихах,
Но — ах!
Альбом замкнулся сам собой,
А ключ у Вас в руках,
И не согласен сам замок,
Чтобы вписал хоть восемь строк
Писать стихи забывший
Блок.
Июнь 1920
«Как всегда, были смешаны чувства…»
Как всегда, были смешаны чувства,
Таял снег и Кронштадт палил.
Мы из лавки Дома искусства
На Дворцовую площадь брели…
Вдруг — среди приемной советской,
Где «все могут быть сожжены», —
Смех, и брови, и говор светский
Этой древней Рюриковны.
15 марта 1921
Приложения
Из примечаний к сборнику «Снежная ночь»
Северные ночи длинны, синева их изменчива, видения их многообразны. Северный художник поневоле предпочитает бесцветному дню — многоцветную снежную ночь. Называя сем именем последнюю книгу моего нынешнего собрания стихотворений, я хотел бы, чтобы читатели вместе со мною видели в ней не одни глухие ночные часы, но и приготовление к ночи свет последних закатов, и ее медленную убыль — первые сумерки утра.
Январь 1912
К поэме «Возмездие»
Возмездие. Первая редакция поэмы
(Варшавская поэма)
Посвящается сестре моей Ангелине Блок
Жандармы, рельсы, фонари,
Жаргон и пейсы вековые…
И вот — в лучах больной зари
Задворки польские России…
Здесь всё, что было, всё, что есть,
Все дышит ядами химеры;
Коперник сам лелеет месть,
Склонясь на обод полой сферы…
Месть, месть — в холодном чугуне
Звенит, как эхо, над Варшавой,
То Пан-Мороз на злом коне
Бряцает шпорою кровавой…
Вот — оттепель: блеснет живей
Край неба желтизной ленивой,
И очи панн чертят смелей
Свой круг — ласкательный и льстивый.
Всё, что на небе, на земле,
Повито злобой и печалью…
Лишь рельс в Европу в черной мгле
Поблескивает верной сталью.
Отец лежал в «Аллее роз»,
Уже с усталостью не споря.
А поезд мчал меня в мороз
От берегов родного моря.
Вошел я. «В пять он умер. Там», —
Сказал поляк с любезной миной.
Отец в гробу был сух и прям.
Был нос прямой — а стал орлиный.
Был жалок этот смятый одр,
И в комнате чужой и тесной
Мертвец, собравшийся на смотр,
Спокойный, желтый; бессловесный.
Застывший в мертвой красоте,
Казалось, он забыл обиды:
Он улыбался суете
Чужой военной панихиды.
Но я успел в лице признать
Печать отверженных? скитальцев
(Когда кольцо с холодных пальцев
Мне сторож помогал снимать).
Да, я любил отца в те дни
Впервой и, может быть, в последний…
В толпе затеплились огни
Вослед за скучною обедней…
И чернь старалась как могла;
Над гробом говорили речи;
Цветами дама убрала
Его приподнятые плечи.
Потом — от головы до ног
Свинцом спаяли ребра гроба
(Чтоб он, воскреснув, встать не мог, —
Покойный слыл за юдофоба).
От паперти казенной прочь
Тащили гроб, давя друг друга.
Бесснежная визжала вьюга
Злой день сменяла злая ночь.
Тогда мы встретились с тобой.
Я был больной, с душою ржавой…
Сестра, сужденная судьбой,
Весь мир казался мне Варшавой!
Я помню: днем я был «поэт»,
А ночью (призрак жизни вольной?)
Над черной Вислой — черный бред?
Как скучно, холодно и больно!
Лишь ты напоминала мне
Своей волнующей тревогой
О том, что мир — жилище бога,
О холоде и об огне.
Мы шли за гробом по пятам
Из города в пустое поле
Но незнакомым площадям.
Кладбище называлось: «Воля».
Да, песнь о воле слышим мы, —
Когда могильщик бьет лопатой
По глыбам глины желтоватой;
Когда откроют дверь тюрьмы;
Когда мы изменяем женам,
А жены — нам; когда, узнав
О поруганьи чьих-то прав,
Грозим министрам и законам
Из запертых на ключ квартир;
Когда проценты с капитала
Освободят от идеала, Когда…
На кладбище был мир,
И впрямь пахнуло чем-то вольным;
Кончалась скука похорон.
Здесь радостный галдеж ворон
Сливался с гулом колокольным.
Как пусты ни были сердца,
Все знали: эта жизнь сгорела.
И солнце тихо посмотрело
В могилу бедную отца…
Отца я никогда но знал.
А он — от первых лет сознанья —
В душе ребенка оставлял
Тяжелые воспоминанья.
Мы жили в разных городах,
Встречались редко и случайно.
Он был мне чужд во всех путях
(Быть может, кроме самых тайных).
Его циничный тяжкий ум
Внушал тоску и мысли злые
(Тогда я сам был полон дум,
И думы были молодые).
И только добрый, льстивый взор,
Бывало брошенный украдкой
Сквозь отвлеченный разговор,
Был мне тревожною загадкой.
Ходил он посидеть, как гость,
Согбенный, с красными кругами
Вкруг глаз. За вялыми словами
Нередко шевелилась злость.
А мне его бывало жаль…
И он, как я, ведь принял с детства
Флобера странное наследство —
Education sentimentale.
Правдивы вы — и без прикрас,
Стихи печальные поэмы! —
Да, нас немного. Помним все мы,
Как зло обманывали пас.
Мы, современные поэты,
О вас, от вас мы плачем вновь,
Храня священную любовь,
Твердя старинные обеты!
Пусть будет прост и скуден храм,
Где небо кроют мглою бесы,
Где слышен хохот желтой прессы,
Жаргон газет и визг реклам,
Где под личиной провокаций
Скрывается больной цинизм,
Где торжествует нигилизм —
Бесполый спутник «стилизаций»,
Где «Новым временем» смердит,
Где хамство с каждым годом — пуще,
Где полновластны, вездесущи
Лишь офицер, жандарм — и жид,
Где память вечную Толстого
Стремится омрачить жена…
Прочь, прочь! — Душа живя — она
Полна предчувствием иного!
Поют подземные струи,
Мерцают трепетные светы…
Попомни Тютчева заветы:
«Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои».
Пусть зреет гнев. Пускай уста
Поэтов не узнают мира. —
Мы в дом вошли. Была пуста
Сырая, грязная квартира;
Привыкли чудаком считать
Отца; на то имели право;
На всем покоилась печать
Его тоскующего нрава;
Он был профессор и декан;
Жил одиноко, мрачно, странно;
Ходил в дешевый ресторан
Поесть. На площади туманной
Его встречали: он бочком
Шел быстро, точно пес голодный,
В шубенке старой и холодной
С истрепанным воротником;
И видели его сидевшим
На улице, на груде шпал;
Здесь он нередко отдыхал,
Согнувшись, с взглядом опустевшем.
Он понемногу «свел на нет»
Всё, что мы в жизни ценим строго;
Не освежалась много лет
Его убогая берлога:
На мебели, на грудах книг
Пыль стлалась серыми слоями;
Здесь в шубе он сидеть привык
И печку не топил годами;
Он всё берег и в кучу нес:
Бумажки, лоскутки материй,
Листочки, корки хлеба, перья
В коробках из-под папирос,
Белья нестиранного груду,
Портреты, письма дам, родных,
И даже то о чем в своих
Стихах рассказывать не буду…
И наконец — убогий свет
Варшавский падал на киоты
И на повестки и отчеты
«Духовно-нравственных бесед»;
Так с жизнью счет сводя печальный,
И попирая юный пыл,
Сей Фауст, когда-то радикальный,
«Правел», слабел… и всё забыл;
Ведь жизнь уже не жгла — томила,
И равнозначны стали в ней
Слова: «свобода» и «еврей»…
Лишь музыка — одна будила
До смерти вольную мечту;
Брюзжащие смолкали речи;
Хлам превращался в красоту;
Прямились сгорбленные плечи;
С нежданной силой пел рояль,
Будя неслыханные звуки:
Проклятия страстей и скуки,
Стыд, горе, светлую печаль…
И наконец — чахотку злую
Своею волей нажил он,
И слег в лечебницу плохую
Сей современный Гарпагон.
Страна под бременем обид,
Под гнетом чуждого насилья,
Как ангел, опускает крылья,
Как женщина, теряет стыд.
Скудеет национальный гений,
И голоса не подает,
Не в силах сбросить ига лени,
В полях затерянный народ,
И лишь о сыне-ренегате
Всю ночь безумно плачет мать,
Да шлет отец врагам — проклятье
(Ведь старым нечего терять)…
А сын — он изменил отчизне,
Он жадно пьет с врагом вино…
И ветер ломится в окно,
Взывая к совести и к жизни…
Не так же ль и тебя, Варшава,
Столица древних поляков,
Дремать принудила орава
Военных русских пошляков?
Здесь жизнь скрывается в подпольи;
Молчат магнатские дворцы;
Лишь Пан-Мороз — во все концы
Свирепо рыщет на раздольи;
Неистово взлетит над вами
Его седая голова,
Иль откидные рукава
Взмахнутся бурей над домами, —
Иль конь заржет — и звоном струн
Ответит телеграфный провод,
Иль вздернет Пан взбешенный повод —
И четко повторит чугун
Удары мерзлого копыта
Но опустелой мостовой?
И вновь, поникнув головой,
Безмолвен Пан, тоской убитый…
Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой иль тоскою;
Когда под гробовой доскою
Всё, что тебя пленяло, спит;
Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой,
И тяжелит ресницы иней, —
Тогда — остановись на миг
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг;
По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым, запушённым садом,
И небо — книгу между книг…
Найдешь в душе опустошенной
Ты образ матери склоненной,
И в этот несравненный миг —
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Свою холодную любовь —
Всё примешь сердцем благодарным,
И всё благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем «quantum satis» Бранда воли,
А мир — свободен, как всегда.
Отец! Ты знал иных мгновений
Незабываемую власть!
Недаром в скуку, смрад и страсть
Твоей души — какой-то гений
Печальный проникал порой:
Твои озлобленные руки
Будили Рубинштейна звуки,
Ты ведал холод за спиной,
И, может быть, в преданьях темных
Твоей души, в глуши, впотьмах —
Хранилась память глаз огромных
И крыл, изломанных в горах…
В ком смутно брежжит память эта,
Тот странен и с людьми не схож:
Всю жизнь его — уже поэта
Священная объемлет дрожь,
Бывает глух, и слеп, и нем он,
В нем почивает некий бог,
Его опустошает Демон,
Над коим Врубель изнемог!
Его прозрения глубоки,
Но их глушит ночная тьма,
И в снах холодных и жестоких
Он видит «горе от ума»…
Тебе, читатель, надоело,
Что я тяну вступленья нить,
Но знай — иду я к цели смело,
Чтоб истину установить.
Кто б ни был ты, — среди обедов,
Или храня служебный пыл,
Ты, может быть, совсем забыл,
Что был чиновник Грибоедов,
Что службы долг не помешал
Ему увидеть в сне тревожном
Бред Чацкого о невозможном,
И Фамусова шумный бал,
И Лизы пухленькие губки…
И — завершенье всех чудес —
Ты, Софья… Вестница небес,
Или бесенок мелкий в юбке?.
Я слышу возмущенный крик:
«Кто ж Грибоедова не знает?» —
«Вы, вы!» — Довольно. Умолкает
Мой сатирический язык, —
Читали вы «Милльон терзаний»,
Смотрели «Горе от ума»…
В умах — всё сон полусознаний, —
В сердцах — всё та же полутьма…
«Твой Врубель — кто?» — отвсюду разом
Кричат… Кто Врубель? — На, лови!..
(О, господи благослови…)
Он был… печерским богомазом.
Пожалуй, так собьюсь с пути —
Всё объясняю да толкую…
Ты пропусти главу-другую,
А впрочем (бог тебе прости)…
Хоть всю поэму пропусти.
С тобою связь я стал терять,
Читатель, уходя в раздумья,
Я голосу благоразумья
Давно уж перестал внимать…
Передо мной открылись бездны…
И вдруг — припоминаю я:
Что, если ты — колпак уездный,
Иль, скажем, ревностный судья?..
Иль даже чином много выше?
Я твой не оскорблю устав:
С пучком своих четверостиший
На землю вновь лечу стремглав…
Эй, шибче! Пользуясь моментом,
(Чтоб ты меня не обзывал
«Кривлякою» и «декадентом»),
Зову тебя к себе на бал!
Знакомьтесь: девушка из скромных —
Она тебя не оскорбит,
Застенчивость, и даже стыд,
Горят во взорах Музы томных,
С ней смело танец начинай…
А если ты отец семейства, —
Эй, Муза! чур, без чародейства,
Кокетничай, да меру знай!
Читатель! Веселее! С богом!
Не раскисай хоть на балу!
Не то опять высоким слогом
Я придушу тебя в углу!
Она — ты думал — неуклюжа,
И неречиста, и скучна?
Нет, погоди, мой друг! Она
Сведет с ума любого мужа,
Заставит дуться многих жен,
Пройдясь с тобой в мазурке польской,
Сверкнув тебе улыбкой скользкой…
(А ты, поди — уже влюблен!)
«Я вас люблю — и вы поверьте!»
(Мой бог! Когда от скромных дев
Вы этот слышали запев?)
Смотри! Завертит хоть до смерти,
Сдавайся! С Музою моей
Ты ждал не этого, признаться?
И вдруг — так страшно запыхаться?..
Приляг же, отдохни скорей,
И больше не читай поэмы!
Негодница! Что скажет свет?
Подсовывать такие темы
Читателю почтенных лет?
Прочь с глаз! С такими я не знаюсь!
Ступай, откудова пришла! —
Тебя плясунья провела,
Читатель! Так и быть, признаюсь:
Повеселить тебя я рад,
Ища с плясуньями союза,
Но у меня — другая Муза,
А эту — взял я напрокат.
Январь 1911