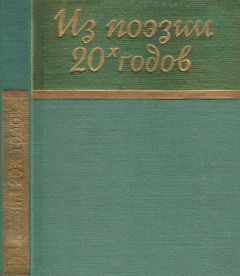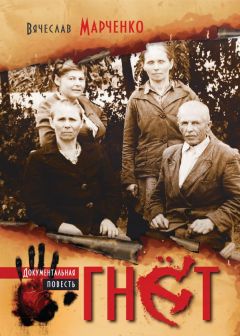Борис Пастернак - Лирика 30-х годов
Змеевик
Если б я в бога веровал
И верой горел, как свеча,
На развалинах древнего Мерва
Я сидел бы
И молчал.
Я сидел бы до страшной поверки,
Я бы видел в каждом глазу
Невероятную синеву
Сверху,
Невероятную желтизну
Внизу.
Я, как змей, завился бы от жара,
Стал бы проволочно худым.
Над моей головой дрожали бы
Нимбы, ромбы,
Пламя и дым.
Хорошо быть мудрым и добрым,
Объективно играть на флейте,
Чтобы ползли к тебе пустынные кобры
С лицами
Конрада Фейдта[19].
Это милые рисунчатые звери,
Они танцуют спиральные танцы.
Вот что значит твердая вера —
Преимущество
Магометанства.
Я взволнован, и сведенья эти
Сообщаю, почти уверовав:
Я сегодня дервиша встретил
На развалинах
Древнего Мерва.
Он сидел, обнимая необъятное,
Тишиной пустыни объятый.
На халате его, халате ватном,
Было все до ниточки
Свято.
О, не трогайте его, большевики,
Пожалейте
Худобу тысячелетней шеи!
Старый шейх играет на флейте,
И к нему приползают змеи.
Они качаются перед ним,
Как перед нами
Качается шнур занавески.
Песня свистит, как пламя,
То шуршаще,
То более резко.
А потом эти змеи дуреют,
Как на длинном заседанье
Месткома.
Они улыбаются все добрее,
Трагической флейтой
Влекомые.
А потом эти змеи валятся,
Пьяные, как совы.
Вся вселенная стала для них вальсом
На мотив
Загранично-новый.
Но старик поднимает палку,
Палку, —
Понимаешь ли ты?
Он, как бог,
Сердито помалкивая,
Расшибает им в доску
Хребты.
И, вздымая грудную клетку,
Потому что охрип
И устал,
Измеряет змей на рулетке
От головы
До хвоста.
Он сидит на змеином морге,
Старичина,
Древний, как смерть.
И готовит шкурки
Госторгу,
По полтиннику
Погонный метр.
Земли Красной Звезды
Невозможные силы весны
поднимались по жилам.
Ветер,
брат моей жизни,
держал ночной караул.
Звери, птицы и травы
Стремительно жили,
И на склоне бугра,
затаясь,
зацветал саксаул.
Я хочу говорить
словами
совсем простыми,
Только жар простоты
укрепляет
и может помочь,
Если сердце твое лежит
на ладони пустыни
И его прикрывает
ладонью
пустынная ночь,
Я расту, как травинка,
и делаюсь проще
и лучше.
Я расту
и цвету
молодой головой.
Я захвачен весной
на весенней стоянке
белуджей.
Ночью радостной
и ветровой.
Мир, наполненный звездами,
поглотил меня
без остатка.
Мир, наполненный шорохом,
переродил меня.
На меня надвигается
войлочный конус
палатки.
Стон верблюдов
и топот коня.
И тяжелая Азия
в черном своем убранстве,
С бородой,
поседелой
от солончаков,
Шелестела растениями
дальних странствий —
Саксаулом,
селимом
и гребенчуком.
Это чрево весны,
это были весенние роды.
От обилия звезд
закрывались
пологи век.
Над пустыней царили
незрячие силы природы.
Против них,
не страшась,
выходил человек.
Далеко, далеко,
в сердце южного Кара-Кума,
Через границу
великих
Советских стран
Ночью шли племена
на хребтах караванного шума,
Оставляя
Афганистан.
Был огромен
неведомый мир,
наплывавший в покое,
Каждый всадник молчал,
натянув поводья узды.
Впереди восходили
надеждой людскою
Земли
Красной Звезды.
Был тревожен
тяжелый поток
уходящего племени,
И широкую думу
думал передовой.
Для него,
раздвигая пески,
легендарное имя Ленина
Пело
пастбищами и водой.
Слышал он впереди
звон звезды
и бессмертной свободы,
Тень покинутой родины
металась в его голове.
Над пустыней царили
могучие силы природы.
Против них,
не страшась,
выходил человек.
Выходил беспокойный
земной задира,
Миллионами гибнущий
в тысячелетнем бою,
Чтобы снова сказать величавому
миру:
«Я
тебя не боюсь!
Мой отец погребен,
я умру,
и детей моих похоронят,
Только сила людей
не надломится никогда.
Вечно крепки они,
вечно будут для них
обороной
Сталь,
огонь
и вода».
Так кочевники шли
за свободой и счастьем на север,
В Земли Красной Звезды —
через лунный туман,
Под огромными сводами неба
в огнистом посеве,
Покидая Афганистан.
Жизнь
Ночь глуха.
Я зажигаю спичку
И по огненному ножу,
Средь кибиток
и запряжек бычьих,
На широкую
дорогу
выхожу.
Две зари
друг другу отдавали
Рваные отары облаков.
Вдоль карагачей,
сухих дувалов
Я иду
легко и далеко.
Так легко,
что ни землей,
ни камнем
Мой уход
не потревожен был.
И летела сзади
облаками
Азиатская,
седая пыль.
Но тропинка,
тонкая, двойная,
Переводит
через тощий ров
К опустелой крепости
Дейнау,
В кладбище
распавшихся
бугров.
Шла гроза,
гремя по горным склонам,
Дыбилась
неведомо куда.
К ней тянулась
глыба из бетона,
И на гребне —
красная звезда.
Здесь давно
не разрывался порох,
Не клонился
мокрый шелк знамен, —
Это кладбище
алайцев и саперов,
Выщербленных
каменных имен.
Млечный Путь
наполнен белым соком.
Освещает звездная река
Надпись:
«За трудящихся Востока!»,
Буквы: «Слава!» —
и металл венка.
Я, товарищи,
про этот подвиг знаю,
Хоть неведомы
суровых лиц черты.
Кровь героев
светит,
поднимаясь
Из глубин
подземной темноты.
Кровь,
пролитая за жизнь,
не канет.
Ей дано
в людских телах
кружить.
Ваша жизнь,
кипевшая
в словах и тканях, —
Это есть
и будет
наша жизнь.
По ночам
в непроходимой чаще
Времени
все чаще слышу я,
Как ревет
в крови моей летящей
Грузная махина бытия.
Я глядел
в глаза твои большие,
Жизнь, праматерь
смерти и любви,
Я хотел понятней,
проще, шире
Каждой радости сказать:
«Живи!»
Но штыком мне отворили зренье,
Ослепила боем и людьми
Ненависть,
которой нет сравненья,
Ярость,
перестроившая мир.
Только ей
отдал я все на свете,
Право жить
и честно умереть,
Даже тот,
любимый мною ветер —
Ветер дальних странствий
и морей.
Смерть
не для того, чтобы рядиться
В саван
мертвых, медленных веков.
Умереть —
чтобы опять родиться
В новой поросли
большевиков.
«Сивым дождем на мои виски…»