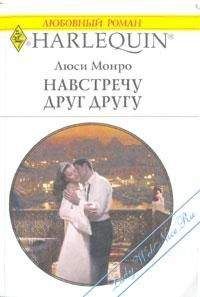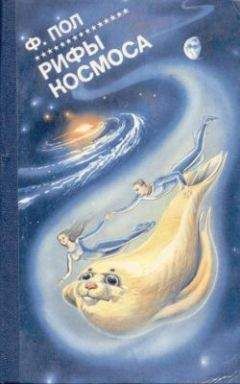Евгений Рейн - Мне скучно без Довлатова
Далее события развивались так. В нижний буфет вошел Вознесенский. Я сказал ему, что там в углу за столиком сидит Бродский.
— Поехали ко мне, — сказал Андрей Андреевич.
Я передал его предложение. Бродский молчал.
— Мы идем на сценарные курсы, там в два «Мальтийский сокол» Джона Хьюстона.
— А, по роману Дэшела Хэммета! Я видел.
— Ну и что, — сказал я, — всегда интересно посмотреть дважды. Там замечательные актеры — Хэмфри Богарт и Мэри Астор, да к тому же история фигурки золотого сокола, начиненной бриллиантами, — я знал сюжет фильма от Авербаха.
Бродский не пошел и на «Мальтийского сокола».
— Тебе не интересно? — спросил я.
— Вот ты послушай, что интересно. Пока ты глазел на этих идиотских кукол, я заехал на Речной вокзал. Ну, там по одному делу. Час ночи. Где ночевать? Она постелила. А мать ее работает врачом на «Скорой помощи». И в эту ночь она дежурила. Случайно ехала мимо своего дома, зашла проведать дочь. Ну, со своим ключом, естественно. Я слышу — открывается дверь. Что делать? Я — с головой под одеяло. Может, пронесет. Мама садится на край кровати. Дочь говорит: «Мама, я себя плохо чувствую. Только что заснула. Не буди меня, пожалуйста». А мама гладит одеяло. Нежная мама. Но выходит так, что через одеяло она гладит меня. Я закусил простынь, чтобы не засмеяться. Дочь совсем сникла. Мама вдруг все поняла. Открывает такой медицинский чемоданчик и достает шприц. Кипятит его. Ломает ампулу. Тут уж я испугался. Но мама делает укол себе. «Ты меня доведешь до инфаркта», — говорит она и уходит. Боже, я хохотал до утра.
— Я опоздаю на «Мальтийского сокола», — сказал я Бродскому.
— Привет Хэмфри Богарту, — откликнулся он. — Помнишь, как в «Судьбе солдата» его убивают через дверь?
— Ну, да, Джеймс Кегни, — говорю я.
— Вот это парень, — говорит Бродский. — «Есть у тучки нежная изнанка».
— Я опоздаю, — повторил я.
— А я не опоздаю, — отвечает Иосиф. — Кстати, ваш ЦДЛ такое г.
Я возразил:
— Ты же был здесь всего полтора часа.
— Более чем достаточно.
— Я все-таки еще раз позвоню Ярмушу.
— Как хочешь, — сказал Иосиф, — Ярмушу так Ярмушу. Сегодня мама не дежурит.
И я пошел смотреть «Мальтийского сокола». (Мою поэму «Мальтийский сокол» можно прочесть в этой книге). Ночевал я у себя на Мясницкой. А утром Ярмуш увез Бродского в больницу Кащенко.
— Отчетливая шизофрения, — сказали в приемном покое.
Я снова позвонил Ярмушу.
— Он в хорошем отделении, — сказал Миша, — посетить его можешь в воскресенье. Возьми фруктов и книгу. Он тебя об этом просит.
В субботу из Ленинграда приехала моя жена, та самая, чья комната была на Мясницкой. Я взял из ее библиотеки Баратынского, мы поехали навестить Иосифа.
Свидания происходили в отдельной комнате с пейзажами Подмосковья на стенах. Стояли обшарпанные диваны, табуретки. Было много посетителей. Родные приехали с судками, кормили своих больных. Вышел Бродский, в серой больничной пижаме, подпоясанный веревкой. Фрукты сразу же подарил санитарке. При виде тома Баратынского восторженно поднял большой палец. Уселся. Закурил. Ему сделали замечание. Он докурил до конца. Замечания не повторили.
— Заберите меня отсюда, — сказал он. — В палате настоящие сумасшедшие. Именно здесь можно сойти с ума. Сделайте это немедленно.
— Но сегодня воскресенье, — сказала жена.
— Немедленно, — повторил Бродский.
Я пошел к дежурному врачу.
— Это невозможно, — сказал он. — Ему нужно отдохнуть, подлечиться. У нас приличные условия. Я думаю, месяц он здесь проторчит. Кстати, у нас ежедневные прогулки по территории. Ему полезно дышать свежим воздухом.
— В воскресенье не выписывают, — сказал я Бродскому.
— Завтра — последний срок, — ответил он.
Мы вышли с женой на улицу.
— Что делать? — спросила она. — Его надо достать оттуда во что бы то ни стало.
— Ардов, — сказал я, — он может все.
Мы поехали на Ордынку.
— Утром я позвоню Снежневскому, — сказал Ардов.
Снежневский был главный психиатр Министерства здравоохранения. Вечер провели у Ардовых. Боря сделал гениальный плов. Нина Антоновна была в театре. К Мише пришли Саша Нилин и Саша Авдеенко, потом Оля Никулина, потом Саша Рыбаков.
— Ребята, помогите, — сказал я. — Его надо достать оттуда.
— Да мы его выкрадем, — сказал Боря Ардов.
Даже собака Лапа недоверчиво тявкнула.
— Принесем ему одежду и… через забор, — продолжал Боря.
— А оттуда на машине, — подтвердил Авдеенко.
Виктор Ефимович Ардов жил так: два часа спал, три часа бодрствовал. И так круглые сутки. Как раз кончились два часа сна. Он вошел в столовую. Выпито нами уже было немало.
— Какое дурачье, — только и сказал он, когда я изложил ему Борину идею. — Я просто позвоню Снежневскому.
— Но он может отказать, — сказал кто-то.
— Кому? Мне? — возмутился Виктор Ефимович. — Я его водил на футбольный матч СССР — Турция в 1938 году. Ну, могу еще книгу ему подарить. Пообещаю билет на Утесова.
— Он, что, сам не может достать билета? — спросил я.
— Так ведь мы потом пойдем вместе за кулисы. Понимаешь разницу?
Разницу я понимал.
Боря пошел купить еще водки у таксистов. Нилин показал, какой правый хук у боксера Попенченко. Рыбаков сказал, что «Приключения Кроша» — это все его приключения, так называлась книга его отца Анатолия Рыбакова. Оля Никулина несколько раз перекрестилась. Пришел Толя Найман. Сильно попахивая французскими духами «Мадам Роша». Он опять обыграл Авербаха и Максуда. Принес нам выигранное — целлофановую сумку воблы. Боря пошел за пивом к таксистам. Миша рассказал, как он однажды провожал на вокзал Михаила Зощенко. Вдруг приехал Ярмуш.
— Какое ваше мнение? — спросил он.
— Его надо отпустить из больницы, — сказал я.
— Ему полезно побыть там, — сказал Ярмуш. — Отделение хорошее.
— Но там ведь сумасшедшие, — возразил я.
— А ты что думал, там космонавты? — срезал меня Ярмуш. Собака Лапа тявкнула. Ардов сидел в уголке людоеда, он бросил в Лапу куриную кость. Вернулась Нина Антоновна. Стали пить чай. Утром Ардов позвонил Снежневскому. Тот сказал, что дело непростое.
— Несколько дней ничего не решают.
— Но концерт Утесова послезавтра, — напомнил Ардов.
Во вторник Бродского отпустили.
ГОЛОСА
Однажды летней ночью в Ленинграде
я ночевал в Михайловском театре,
сейчас, как это было, объясню:
в ту пору у меня кипела дружба
с одной девицей со второго курса
графического факультета ЛХА.
Другой ее дружок был декоратор
того, что называют Малым театром,
вернее — главный декоратор был.
На чердаке огромном двухэтажном
отлично помещались мастерские,
впервые я все это увидал.
Был день рождения — кого, не помню,
и праздновался он довольно крепко,
бутылки две на гостя было там.
И как-то вдруг не по себе мне стало,
я не хотел их отвлекать от пьянки
и просто перешел в соседний зал.
И там прилег на груду декораций,
по-моему, «Ундины», и заснул.
Когда проснулся, все уже ушли.
Я дверь потрогал — заперто, и прочно.
Что делать? Было страшно в этом зале,
какие-то балетные фигуры, казалось мне,
бродили в полумраке.
Уйти, уйти немедленно отсюда!
И это оказалось очень просто —
я вылез из открытого окна
на крышу театральную и, прежде
чем вниз спуститься лестницей пожарной,
увидел сверху спящий Ленинград.
Отель «Европа» и канал, и Невский,
дом Виельгорского — все было на ладони,
и желтый дом — великий наш музей,
и музыкальное большое зданье,
посередине статуэтка — Пушкин,
как будто бы приятно сделал ручкой
народу и чего-то говорил.
Но было очень тихо, очень тихо…
Я с высоты увидел и громаду
того, что изваял артист Паоло,
кусок огромного литого битюга
и шапку императора кастрюлей,
он за музеем во дворе стоял.
А в общем, некуда спешить мне было —
куда ты денешься в такую рань?
И я присел на самом крае крыши
и закурил. И тут подумал я,
что эта площадь — главная в России,
тут Пушкин, император и отель,
где жили все, где был чердак отписан
под ресторан и назывался «крышей»
и был доступен небольшой ценой.
В те времена, когда я инженером
служил на Охте на плохом заводе
и пробовал прожить своим пером,
мы часто эту крышу посещали,
сдавали складчину официанту —
уж он-то знал, какую надо водку
на эти деньги и закуски чуть,
и сам все делал. Мы и не вникали.
Я помню всех — Каплан и Беломлинский
с женою Викой, Пизя-музыкант,
фарцовщики Арнольд и Бакаютов,
фотограф Поляков и юный Бродский,
Банчковская-красавица и Ася —
звезда, потом Довлатова жена.
И кто-нибудь еще — не в этом дело,
а дело в том, что точно подо мной
в подвале императорского театра
располагалася «Бродячая собака»,
закрытая в пятнадцатом году,
а там бывали те, кто там бывали.
Так я сидел, глазел, и понемногу
послышались какие-то гудки,
прошел автобус первый к островам,
и почему-то вдруг заржала лошадь,
быть может, в цирке — он недалеко.
Потом опять все стихло, постепенно
возобновился звук, и с этим звуком
я различил неясный разговор,
как будто бы он шел со всех сторон,
кто это говорил? Я поначалу
совсем не понял, и виолончель
звучала из Дворянского собранья:
«Я вам оставил дивную страну,
безмерную от Выборга до Кушки,
от устья Енисея до Тифлиса,
что сделали вы с этою страной?» —
«Ах, государь, прошел великий Рим,
и миновал Египет фараонов, Аттила
и Чингиз, и Тамерлан. Остановилось время.
Мы проходим».
«Вот так твоя империя прошла,
твой сын над этим очень постарался,
потом два демона со Спасской башни,
потом два олуха и мелкота.
Об этом ли сегодня надо думать?
Пусть выживут, а веселы уж будут.
Оптимистичный у тебя народ,
и пересилит все его характер,
пусть только он идет своим путем,
его сбивать не надо, он доверчив
и презирает власть, готов вручить
ее кому угодно — нате жрите,
а нам оставьте водку и труды.
Народ хороший, верь мне, государь…»
Кто это говорит, я удивился
до обморока, потому что Пушкин
как будто бы рукой мне помахал,
чего с похмелья, право, не увидишь,
да, верно, показалось! Смолкло все,
пока искал я в пачке «Беломора»
последнюю, должно быть, папироску,
опять послышалося что-то из другого
конца пространства, как из подворотни:
«Два года я уланом воевал и видел смерть,
и конную атаку, и принимал германскую шрапнель,
потом очнулся возле Монпарнаса,
где проживала Синяя Звезда,
и было так приятно ранним днем
позавтракать горячим круасаном,
зачем же я вернулся в Петроград?
Так много дела было у меня —
кружки и лекции, романы и интриги,
четырехстопный ямб мне надоел,
его хотел я заменить пэоном,
но не успел…» И снова тишина.
Из этой тишины другой сказал:
«Ах, будет то, что будет, надо жить,
брести Таврическим и Летним садом,
ходить в кинематограф, пить вино,
влюбляться, если есть в кого влюбляться,
писать стихи у жизни на полях,
бренчать под вечер на рояле старом,
любить друзей, а недругов прощать». —
«Ну, нет, — ему ответил чей-то голос, —
закисли вы на башенке своей,
мы эту жизнь развалим на куски
и раскроим отсюда до Камчатки,
перевернем вверх дном и оглушим.
Я лично оглушу всемирным басом,
потом увижу дальние края —
Америку, Европу, океаны —
в большом нарядном зале под квадригой
и Аполлоном я прочту поэму —
и будет мне внимать народный вождь.
Ну, а потом…» — и как-то он запнулся.
«Ну, что вы, молодой вы человек, —
ему ответил тенорок упрямый, —
ну, что вы, не грозите кулаком,
стихи пишите, есть у вас талант,
а это ведь единственная новость,
как мне сказал соперник из Москвы.
Не зарывайте в землю ваш талант.
О, сколько же на свете есть всего» —
«скворцов немецких, мудрых перекличка,
французских петухов „кукареку“
и итальянские заливистые трели,
и Альбиона клекот соколиный —
заслушаешься… Но умейте слушать,
не заглушайте пенья этих птиц.
Я все отдам за эти переборы,
и все возьмут, должно быть, у меня —
табак народный — „Беломорканал“
дурной струей ворвался мне в нутро…»
Закашлялся он вдруг и задохнулся,
и оборвался голос и затих.
«Пора, пожалуй, вниз, — подумал я. —
Уже не рано, мне откроют двери».
И только я на лестницу ступил
пожарную, сходившую во дворик,
как снова наваждение пришло:
«Должно быть, всякий прав из вас, друзья,
так Бог задумал — всякому свое,
а мне бессонница и ожиданье,»
«как долго мне придется в жизни ждать
богатства, сына, сицилийских лавров,
вот только слава сразу поспешит,
но что такое слава? Он сказал,
что слава — это яркая заплата,
а рубище, оно всегда при мне.
Ускорим шаг, нас ждут в подвале нашем…»
По ржавым перекладинам непрочным
я вниз полез. И вдруг: «Остановись, —
мне новый голос ясно приказал,
он шел уже как будто с высоты:
Остановись», — я в небо поглядел,
в родное утреннее небо Ленинграда.
«Я бросил это небо, как? зачем?
Другое небо было больше, выше,
расцвечено сверкающим неоном
и вспышками „люфтганзы“ и „панам“,
и я теперь живу на этом небе,
а было мне неплохо на земле
какой угодно, пермской и эстонской,
американской, да и на родной.
Я много походил по ней тяжелым»
«аршинным шагом, бормоча свое,
но я хотел бы все-таки вернуться,
ну, хоть сейчас… компания большая,
достойная меня бы приняла,
и наконец бы мы поговорили.
Столь многое хотелось мне узнать,
а тут чужие люди, в этом небе,
у них свои заботы — как у всех».
Был этот голос мне знаком отлично,
я слушал бы его еще, еще,
но тут вступил еще один приятель,
он мне когда-то продавал носки
нейлоновые, звался он Альбертом
и жаловался вроде на судьбу:
«Ну, что хотел я? Одевать людей
в шузню и джинсы, в „штатские“[12] рубашки,
из них предпочитая „батн-даун“,
в британские породистые кепки
и в итальянский трудоемкий шелк,
в бостон двубортный, в шелест кашемира,
в норвежские с оленем свитера.
Они меня за это расстреляли,
я голым лег в могилу, и она
была запахана. Несправедливо.
Ну, как теперь я на суде не вашем,
а другом, судье предстану,
где я возьму меня достойный „сьют“
и прочее. Вот в чем вопрос, и Гамлет
со мною не поделится плащом.
Он скряга, этот Гамлет, хоть учен».
«Ну, это полный бред», — подумал я.
И тут как раз последняя ступенька,
и спрыгнул я на дворовой асфальт.
Когда я вышел на канал, уже
был белый день, бежали дети в школу,
какой-то «форин» расспросил меня,
где здесь отель, я объяснил ему,
но сам не понял ни того, что было,
ни настоящего, ни будущих времен.
МИШКА НА СЕВЕРЕ