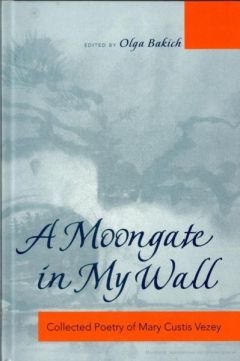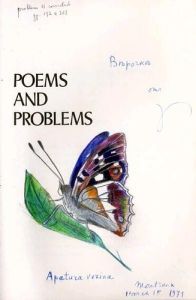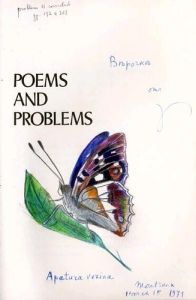Мария Визи - A moongate in my wall: собрание стихотворений
7 июня 1928
3. «Проходи своей дорогой…»
Проходи своей дорогой
и скрывайся в ночь,
ведь народу встретишь много —
промелькнут, и прочь…
Я иду, шагов не слышу,
не гляжу кругом,
пусть садится день за крышу —
не грущу о нем.
Были тысячи прохожих
в долгой череде,
только не было похожих
на тебя — нигде.
1928
4. «Есть темный грот в лесной глуби…»[46]
Есть темный грот в лесной глуби,
куда не все смогли б добраться;
и если любишь, то люби,
но не проси меня остаться.
Бывает слишком не понять
ни лиц чужих, ни впечатлений,
как будто нужно убежать
от человеческих селений.
Пусти меня. Я отойду
от грубого людского гама
затем, что я люблю звезду
и песню рыцаря Вольфрама.
1927
5. «Луна — сегодня вечером рано…»
Луна — сегодня вечером рано
(сегодня я все, что хочу, смогу)
на небо, на синюю твою поляну,
как только выйдешь, я прибегу!
Рядом с тобою, на тихом поле,
где звезды выросли — камыши,
будет все меньше, все меньше боли
в кувшинке белой земной души.
1927
6. «На дне глубоких призрачных озер…»
На дне глубоких призрачных озер,
горящих блеском звездного пожара,
мой город Китеж спрятан с давних пор.
Я там живу. И я тебе не пара.
Ты не поймешь: ведь это не дворцы
тебе знакомой южной Атлантиды;
издревле вдохновенные отцы
туда скрывались от мирской обиды.
Там поднялись высоко купола,
и звон колоколов летит, играя,
и ангельского светлого крыла
ложится отблеск от конца до края.
Там голоса людей звенят мечтой
и светятся глаза бессловной песней,
и нету жизни, радостнее той,
и нету в мире стороны чудесней.
Ты смотришь на меня, — а я стою,
где ветер на воде играет тенью,
и ухожу в холодную струю,
к тебе недостижимому владенью.
И песнями призывными тебе,
пришедшему от чуждых мне скитаний,
нельзя переменить в моей судьбе
старинных чар и золотых преданий.
1926
7. «Ты пришел и постучался в дверь…»
Ты пришел и постучался в дверь,
в домик мой, стоявший на пути.
Я открыла. Что же делать мне теперь,
если ты готовишься уйти?
Ты забрел случайно; ты не знал,
кто с приветом выйдет на крыльцо.
Улыбнулся на прощанье, и пропал.
— Мне твое запомнилось лицо.
1925
8. «Когда в открытое окно…»[47]
Tito
Когда в открытое окно
вечерних улиц шум влетает
бывает грустно и темно,
— но сердце что-то ждет и знает.
Его не трогает испуг
от грубого людского тона
и повторяющийся звук
испорченного граммофона.
Оно задумалось и ждет,
и в темноте своей таится,
и оттого еще живет,
что верит: песня повторится,
и позже, вдруг, затихнет все,
и будет лишь звучать красиво
«сон» кавалера des Grieux
взамен трактирного мотива.
1928
9. «Красный колпак с зеленым…»[48]
(Your jester, Eva)
Красный колпак с зеленым,
к плечу бубенчик приник,
и глупым таким фасоном
топорщится воротник.
Кукла ты, статуэтка,
отодвинут, чтоб не мешать,
я только редко-редко
должна тебя вспоминать.
Потому что, хоть твои губы
искривились зло и молчат.
Мне ничто так не будет любо,
как твой игрушечный взгляд!
1926
10. «Есть остров в океане. Ни коралл…»
Есть остров в океане. Ни коралл,
ни жемчуга его не украшают.
На голых гранях почерневших скал
растений корни молча умирают.
Там в полдень не проходят облака,
чтоб освежить каленый камень тенью.
и Божья вездесущая рука
не трогает опального владенья.
Есть в океане памяти моей
погибший мир. В нем нет дневного света.
Он Атлантиды царственной мрачней,
певучими преданьями одетой.
Туда летят развенчанные сны.
забытые осенними ночами.
Там мертвый лоб желтеющей луны
туманы кроют мокрыми плащами.
1926
11. «Слышишь ли ты, море…»
Слышишь ли ты, море,
я тебя зову?
Чуешь ли ты, море,
я тебя люблю?
Море! Ты не слышишь,
ты не внемлешь мне;
ты так тихо дышишь
в сонной глубине,
ты струей трепещешь,
чистой, как хрусталь,
ты как солнце блещешь,
убегая вдаль…
Стаю птиц ласкаешь,
любишь с ней играть,
а меня не знаешь
и не хочешь знать.
1920
12. «Рапсодия спустившихся планет…»[49]
Рапсодия спустившихся планет,
ушедших солнц, испуганных туманом,
и жизнь грустит по незнакомым странам,
и мысль стремится в небывалый свет.
Была любовь; светлей ее не быть.
Одни глаза другим глазам сверкали.
Алмазы в ожерелье бога Кали
таких огней не смели бы затмить.
И больше нет. Звенит другой мотив.
В бездонность древних скачок скрылась чара.
Так блекнет лотос в храме Пешавара.
И день приходит пуст и некрасив.
1926
13. «Тихие, лесистые ручьи…»
Тихие, лесистые ручьи,
синих мхов молчанье вековое,
сны о днях, которые ничьи,
шепоты в полуночном покое.
Хочется понять, и нету слов,
и язык и тех, певучих, разный.
И пришедший день на смену снов
кажется пустой и безобразный.
1926
14. «В высоком, тихом ивовом саду…»
В высоком, тихом ивовом саду,
где лилии стояли, словно свечи,
я верила, что благодать найду,
ища твоей благословенной речи.
Шипы ложились лаской на руке,
когда в кустах я ночью пробиралась,
и думала, что близко на песке
твоих шагов шуршанье раздавалось.
Но почему же месяц предсказал,
что до зари исчезнут все сомненья,
когда зарей ты дальше убежал,
задев мои глаза мелькнувшей тенью?
Мне в желтый месяц веры больше нет.
Я затушу бездонным вздохом свечи
и сглажу на песке остывший след
шагов, ведущих к небывалой встрече.
1926
15. «At night I see the barges on the ocean…»[50]
W.F.
At night I see the barges on the ocean,
each light a spectre, every hull a ghost,
and doubt within me stirs a strong commotion
wonder if it's the sea or you I love the most.
Far in the blackness, breaking loose its tether
one after one, launches a fishing crew.
Here on the beach where we have sat together,
speechless, the sands keep footprints made by you.
What can I know? I feel the whitecaps reaching
only to quench the need of you in me.
Coldheartedly the sea is always teaching
that men are midgets. And I love the sea.
1926
16. «За рекою — отдаленный…»
За рекою — отдаленный
медный звон монастыря…
На курган посеребренный
рассыпает свет заря.
Долгим стоном звон несется
из-под старческой руки…
Скоро ль белый день проснется
над остывшим льдом реки?
Старичок веревку тянет,
раз потянет да вздохнет,
он не первый раз устанет,
он не первый раз зовет
чернецов поторопиться
к ранней службе поутру,
о несчастьях помолиться,
что гуляют по миру.
День за днем, тихонько всходит
но ступенькам винтовым,
дряхлым взором долго водит
но курганам снеговым,
сядет тяжко на колоду
и, напрягши сил, что есть,
к христианскому народу
зазвонит Господню весть.
1922