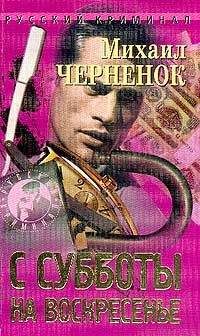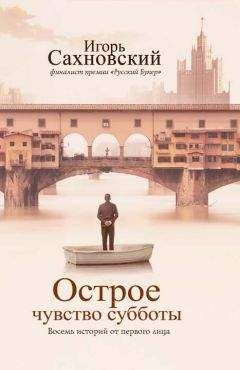Кот Басё - День от субботы
Спасибо, доктор! Больше я не приду.
И раздается звон – перебором нот. Как нестерпимо больно Она поет…
Я бы давно уничтожила город – дома, мосты…
Но там у собора
ночью
танцуешь
Ты.
Мой город спит не с теми...
***
Равнодушие – это когда встречаются две равные души. Им просто нечего дать друг другу.
Мой город спит не с теми, ждет не тех, на завтрак солнце – теплой свежей сдобой. А где-то Бьорк танцует в темноте, и если ты не чувствуешь – попробуй, считай шаги, дотронься каблуком до стертых досок перед эшафотом, послушай ритм, который так знаком всем отдающим жизни за кого-то, закрой глаза – на ощупь, наугад иди вперед, не думая о точке… Такое утро – в фотоаппарат, на макросъемку – лопнувшую почку, зеленый дым над мундштуком ветвей, атлАс листа, шифон цветущей вишни… В такое утро танцевать честней, чем притворяться в городе не лишней, чем сравнивать все то, что все равно не будет равным главному – друг другу …
И Ларс фон Триер выключил кино, у эшафота даме подал руку – и замер танец, остановлен счет, и все свободны – городу навстречу…
И если он, скучая, позовет – мне кажется, я даже не отвечу.
Наша эра
Наш город-в-себе первобытен. В пещерах мрак, во мраке на ощупь друг друга находят люди, рождаются и умирают… Но мы не будем. Мы слишком другие. Мы не умеем так. Мы высекли искру, огонь был строптив и груб, но он покорился, кольцо очага терзая, осколком скалы мы музыку вырезали, и первый варган осторожно коснулся губ. На стенах пещеры мы охрой рисуем дни удачной охоты – по милости древних духов, у нас обострение песен, цветов и звуков. Нас ненавидят гибнущие Они. Они нас боятся, как диких лесных волков, крадущих во тьме их детей; как огромных тигров, чей след от когтей по деревьям идет пунктиром под самыми кронами – дьявольски высоко. Они расставляют капканы, копают рвы, скрывают их ветками, ждут у тропы упрямо, и снова в ловушку срывается с ревом мамонт… Они выжидают – когда же сорвемся мы. Их дикие нравы не знают где свет, где тьма – укрыться от ветра, терзая сырое мясо… Они не умеют плакать, любить, смеяться, они не способны даже сходить с ума. Их старый шаман приказал уничтожить нас – в угоду богам, чтобы не было зимней стужи… Но каждый из нас – бессмертен и безоружен. Охота идет веками. Идет сейчас. Наш город-в-себе первобытен, жесток и глух к мольбам о пощаде – в него не заложен разум… Над входом в пещеры мы выбиваем фразы, которые, словно факел, пронзают тьму. Они не владеют огнем, ими правит страх, что не позволяет приблизиться, – страх и ярость. А мы расписали под сводами верхний ярус – легендой о сердце, что бьется в семи ветрах. Мы недосягаемы, город у нас внутри, и странные хищники бродят по джунглям улиц, гудят магистрали, как дикий огромный улей, и тени людей замурованы в лед витрин. Наш город-в-себе первобытен, опасен, лжив – огрей его плетью, веди, подчиняй и требуй... И город на хоботе нас поднимает в небо, царапая бивнями верхние этажи. Наш город коварен и сумрачен, у корней холодной рептилией тянут хвосты машины, и небоскребов срезанные вершины запутались в паутине вчерашних дней, его повороты пахнут, как пахнет смерть, его ритуальные маски – на каждом встречном, и если ты хочешь однажды случиться вечным – то нужно здесь выжить, как-нибудь, но суметь. Смотри, выбирай – все давно на одной войне, и наши враги за нами следят из щели…Но мы танцуем жизнь у костра в пещере. И знаем немного больше, чем те, кто вне.
Волчье
***
У тайги глаза неспокойной весной горят. Дом заброшен давно, ступени его скрипят, под крыльцом худая кошка и пять котят, в темных комнатах – паутина и тишина. А лесник уехал в город, оставил все, а лесник твердил отчаянно: «Я спасен». Домовой обходит дом, головой трясет, отдыхает на завалинке у окна. Вечереет молча, словно тайга – пуста. Старый леший появляется из куста, примостившись рядом, сетует: «Неспроста. Что-то птиц не слышно, ветер молчит в трубе». И они сидят вдвоем, провожают день, земляничное солнце капает за плетень, из-за елей незаметно выходит тень, а они сидят и думают. О тебе. Как ты рыщешь где-то там, в глубине тайги, как глаза твои прозрачны и глубоки, как чужой идет, считает твои шаги, как ружье его качается за плечом…Ты петляешь, в чащу прячешь, уводишь в лес, ты бежишь ему навстречу, наперерез, ты еще не чуешь, кто оказался здесь… Лучше б им сейчас не думалось ни о чем. Они знают, почему тишина в тайге. Он идет сквозь чащу, по следу, к большой реке, рукоять ножа прилегает к его ноге, словно ждет, когда наступит урочный час. Ведь охотник этот в прошлом – матерый волк, он читает запахи, помнит здесь каждый ствол, он искал тебя, Бесстрашная. И нашел. А убить намного проще, чем приручать. Из трубы по первым звездам крадется дым, старый леший сел чаевничать с домовым, чай, вобрав в себя всю силу лесной травы, отдает тепло размеренно, по глотку. Кошка вышла, трется ласково о порог. Где-то ты в тайге плутаешь, подходит срок. Домовой вздыхает, кашляет: «Ты б помог…». Старый леший шепчет: «Кажется, не смогу… Лесника б сюда, да кто же его найдет… он берег свою волчицу – за годом год, только знал, бедняга, видимо наперед, что однажды не сумеет ее спасти… Потому ушел, оставил все – и исчез. Отпустил его неласковый этот лес…» На стене висит простой деревянный крест. Оплывает свечка, ветер в трубе свистит. И проходит ночь, и снова они молчат, в темном небе светят звезды – глаза волчат, и убить – намного проще, чем приручать, только ты не знаешь этого там, вдали. В предрассветном воздухе время идет к концу. Выстрел звонко бьет – пощечиной по лицу.
Молодая волчица бежит по росе к крыльцу…
И туманом отрывается от земли.
И когда ты снова начнешь изучать счета...
***
И когда ты снова начнешь изучать счета, обнаружишь в списках тысячу мелочей, о которых даже стыдно спросить: зачем?.. А вот нужного не окажется ни черта. И придется опять – по соседям, родным, друзьям, занимая где слово, где капельку их тепла – своего-то, как обычно, не сберегла. Все и так понятно, нечего объяснять. А когда никого не окажется под рукой – у одних отпуска, тот занят и увлечен, ты поймешь: они действительно ни при чем, им и так пришлось водиться с тобой такой. Посидишь тихонько дома – денечка три, постыдишь себя за «уж» или «невтерпеж», а потом начнется ломка – как будто нож одиночества проворачивают внутри. В сердце будет дымиться кратер, во рту – металл, каждый шаг в твоей пустыне – невыносим, ты поднимешь себя пинком, из последних сил, и отправишься в самый темный глухой квартал. Ты найдешь там улыбающихся дельцов, поджидающих всех страждущих на углу, ты получишь дозу нежности сквозь иглу и в беспамятстве опустишься на крыльцо. И ты будешь любить весь мир – ни за что, сполна, опускаясь в разноцветную глубину, погружаться в чьи-то омуты и тонуть и смотреть, как вместо неба растет волна. Тебе будет так отчаянно хорошо, пусть недолго, странно, призрачно – но тебе… А потом волшебный мир остановит бег и замрет на месте, тих и опустошен. Ты вернешься домой в рассеянном полусне, без гроша в кармане, без памяти и души, дом подбросит тебе блокнот и карандаши, разогреет остывший ужин, погасит свет. И пока ты спишь, твой сон происходит там, где не страшно быть доверчивым и простым…
Ты проснешься – и не выдержишь пустоты.
И наступит время платить по своим счетам.
Бирюзой в серебре...
***
Бирюзой в серебре затихают волны, ювелирно точен рисунок мыса, море спит на ключицах Земли кулоном, словно знак бесконечность в оправу вписан, византийским узором ложатся камни на зеленый пояс лесных массивов, и Земля обнимает меня руками – так, что с ней расстаться невыносимо, невозможно – спаяны воедино, гравитация плюс горизонт покоя. Я тиха, безмятежна, невозмутима, только небо какое-то не такое – чайка вьется в лазури и ищет что-то, и внезапно на миг замирает возле белоснежного следа от самолета, разделившего небо на «до» и «после».
А море ее – Мария...
***
А море ее – Мария, мурлычет, у ног свернувшись, прибой сигарету тушит, волной оттолкнет – и примет в объятия… в час отлива лежать у рыбацких джонок – бездомным и обнаженным, безвыходным и счастливым. А море Ее… а море песчинками кожу гладит, в янтарь выгорают пряди… А море ее – Amore, amore, Мария, Liebe – по камушкам перекатом, мы были одним когда-то, и, знаешь, ведь мы могли бы врасти наконец друг в друга – ракушечно, известково, на тысячи лет – в основы, прозрачной прохладой в руку, стихийная эйфория, по нёбу – соленой влагой…