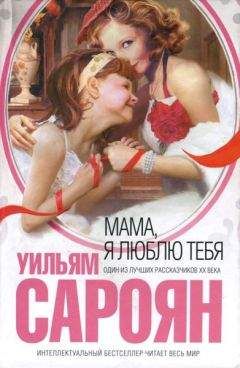Анна Брэдстрит - Поэзия США
Для самого По такого рода декларации, бросающие вызов убогим понятиям «толпы», были еще одной попыткой хотя бы в искусстве осуществить идеал свободного и богоравного человека, «духовного царства, завершенного в себе» (Гегель), — мечту, совершенно неосуществимую в действительности. Невоплотимость этой мечты и драма безгранично ей доверившегося романтического сознания были сущностью его поэзии. Бодлер, его европейский первооткрыватель, назовет По предтечей «проклятых поэтов», самым ранним из «бунтарей» против ханжества и ничтожества буржуазного общества.
Его поэзия полна муки и боли, исступленных порывов и мистических озарений. Вместе с автором мы как будто оказываемся «вне Пространств и вне Времен», а подчас реальность словно вообще исчезает, уступая место воображению и памяти с ее навязчивыми, неотступными образами — Линор в «Во́роне» или Аннабель Ли в одноименном стихотворении:
И в мерцанье ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной — с невестой — любовью моей,—
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.
Русским символистам, ценившим По необычайно высоко, он часто виделся певцом грезы, а его самые знаменитые стихотворения воспринимались прежде всего с формальной стороны, как триумф «чистой» образности, созданной смелыми метафорами, смысловыми и эмоциональными повторами и блистательной звукописью. Поражало, что и в «стране снов», куда раз за разом уносила «безумного Эдгара» его богатая фантазия, выступали со скрупулезной точностью выписанные приметы будничности, а вдохновение не препятствовало чуть ли не математической рассчитанности композиции и выверенности каждого ритмического хода. Здесь находили противоречие, которого, строго говоря, на самом деле не было. Было стремление сблизить идеальное с действительным, как бы подвергая их взаимной проверке. Это черта, вообще характерная для поэзии американского романтизма. Почти неизменно она «жила Настоящим», разными способами напоминающим о себе даже в произведениях как будто совсем далеких и от реальной жизни Америки прошлого столетия, и от ее духовных проблем, которыми определялось самосознание молодой заокеанской нации.
Та же бросающаяся в глаза двойственность По, до сухости трезвого в самом своем исступлении, в этом смысле очень показательна. В его творчестве, помимо типично романтической антиномии возвышенного и земного, уже выразился, причем с неподдельной трагичностью, и кризис веры в американский идеал бесконечно свободного индивида, не выдержавший первой же проверки истинами буржуазного мироустройства. Чем яснее становился для По разрыв высокой мечты и этих низких истин, тем неистовее хотелось ему предаться «возвышенному обману», отрицая даже самоочевидные законы физического бытия — тот же закон бренности каждого существования — во имя освобождения нетленного, целостного и гармоничного начала, которое олицетворено в Психее, символе абсолютной суверенности души. Но обретение такой свободы оказывалось иллюзорным, истина предъявляла свои неоспоримые права, и ее невозможно было преодолеть хотя бы и готовностью к саморазрушению. Перед Настоящим приходилось склониться — пусть не в смирении, а в отчаянии, приходившем на смену бунтарству.
Иронией судьбы, а точнее, эстетической глухотой соотечественников было предопределено, чтобы По умер непризнанным и нечитаемым и был «открыт» Европой за много лет до того, как к нему переменила свою немилость Америка. Теперь понято наконец, что он был самым американским из всех поэтов своего поколения.
Другие еще боязливо посматривали в сторону культурных столиц Старого Света. Следов европейского воздействия, прямых перекличек, подражаний — всего этого на первых порах предостаточно в стихах американских романтиков. Тот же Брайант страстно увлекался Вордсвортом и даже под старость, почти цитируя английского мэтра, говорил, что дело поэзии — изображать «прелесть природы, превратности судьбы и наклонности сердца». За исключением «Стихов о рабстве» и «Гайаваты» в эту простодушную эстетику вполне укладывается и творчество Лонгфелло. Никто из американских литераторов XIX столетия не вкусил столь громкой славы: в США Лонгфелло почитали подлинно национальным художником, в Европе — ставили рядом с Гюго. Даже в Китае перевели «Псалом жизни» и изготовили веер, поместив текст на пластинах.
Современного читателя, пожалуй, удивит такой энтузиазм. Лонгфелло ему покажется поэтом хотя и значительным, но не слишком оригинальным. Как раз этим и объяснялся его прижизненный успех. Его стихи были узнаваемы, они естественно вливались в традицию, освященную большими европейскими именами, а для американцев, остро чувствовавших свою провинциальность, было лестно сознавать себя идущими вровень с Европой не только в коммерции, но еще и в культуре. Достоинство усматривали в том, что было коренным недостатком Лонгфелло, — в его вторичности, в анемичной литературности его тем и образов.
Двадцатый век отнесся к нему по-иному, выделив в его наследии «Гайавату», стихи против рабовладения, несколько стихотворений периода Гражданской войны и предав забвению все остальное. Это несправедливо — не только на взгляд историка. Лирика Лонгфелло, в особенности цикл «Перелетные птицы», созданный им в расцвете сил, сохранила живое обаяние и до наших дней. Элегичность, созерцательность, мечтательная гармония многих его стихотворений не понапрасну увлекали читателей прошлого века — здесь есть и своя поэтическая интонация, и отточенное мастерство. Лучшая пора Лонгфелло пришлась на 40-е годы. В его камерный мир ворвались отзвуки политических событий, приближавших войну Севера и Юга. Его уравновешенная лира зазвучала с непривычной резкостью, появились публицистические краски, да и пейзажные стихи приобрели ясность, строгость, драматизм, мало им свойственные прежде.
Второй раз подлинное вдохновение посетило его в 1854 году, когда в распоряжении Лонгфелло оказалось огромное собрание материалов по индейской истории и фольклору. «Гайавату», написанного на едином дыхании, теперь часто воспринимают как красивую легенду, в духе руссоистских утопий живописующую добродетельного туземца и обходящую острые углы истории. Еще одна несправедливость: Лонгфелло действительно недостает исторического знания, и тем не менее его поэма художественно достоверна в главном — в понимании гуманной сути индейского характера и духовного братства всех людей доброй воли.
Это была высшая точка на пути Лонгфелло. Потом начался спад, хотя поэт продолжал выпускать книгу за книгой. Стилизации быта и нравов далеких эпох, заполнившие сборник стихотворных новелл «Рассказы придорожной гостиницы», порою были виртуозны, а сонеты из позднего сборника «Маска Пандоры» демонстрировали замечательное владение формой. Однако новых творческих горизонтов уже не открывалось. Да и с американской жизнью эти произведения почти не связаны. Прожив долгую жизнь, Лонгфелло фактически остался поэтом раннего романтического периода, в поэзии завершенного к середине 40-х годов.
Для поколения Лонгфелло такая судьба была не исключением, скорее правилом. Ее повторили Джеймс Рассел Лоуэлл, Холмс, да во многом и Уиттьер. Все это были поэты, не находившие противоречия в том, что национальный материал они пытались воплотить средствами поэтики, которая сложилась на другом океанском берегу. Все они отличались кто умеренным, кто довольно радикальным демократизмом, и в преддверии Гражданской войны все трое выказали себя твердыми сторонниками Севера, создав произведения, обличающие рабство. А когда умолкли пушки, всем им оказалось не по силам справиться с новым жизненным содержанием, которое принес «позолоченный век» — так, не без оттенка презрения, назвал эту эпоху Марк Твен.
Лоуэлл и Холмс, питомцы Бостона — тогдашнего интеллектуального центра Америки, и смолоду больше имитировали дух и стиль английских шедевров, чем сочиняли сами. После войны это стремление перещеголять друг друга в подражаниях англичанам сделалось для них чуть ли не главным занятием. За ученость и бесстрастность бостонских литераторов их кружка окрестили браминами — почтительности в этом прозвище было не меньше, чем насмешки.
Вскоре кружок получил пополнение. Явились ревнители «благопристойности» во главе с критиком и версификатором Э. Стедменом. Они насаждали в литературе худосочное «изящество», молились на Теннисона и других викторианцев, а первых отечественных реалистов (как, впрочем, и переводных, особенно Толстого), позабыв об изысканности, осыпали бранью за их «вульгарность». Духу эпигонства, воцарившемуся в американской поэзии к концу века, они способствовали далеко не в последнюю очередь. Новое поколение, выступившее перед первой мировой войной, начало с единодушного бунта против этих паладинов Идеальной Поэзии. Были отвергнуты и их наставники — брамины. Уиттьера попросту успели забыть — и напрасно: стихи против рабства обогащали демократическую традицию, а поэма «Занесенные снегом», содержащая прекрасные картины природы и сельской жизни в Америке старого времени, местами предвещает лирику Фроста. Однако репутацию этой поэтической школы в глазах дебютантов 10-х годов, вероятно, не спас бы и Уиттьер.