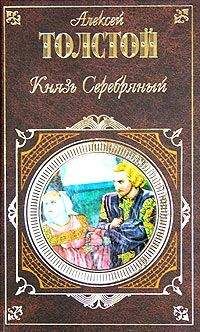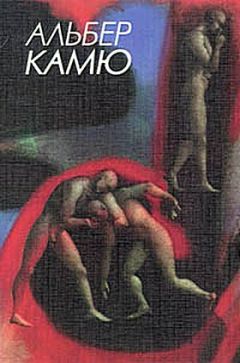Евгений Евтушенко - Окно выходит в белые деревья...
«Достойно, главное, достойно…»
Достойно, главное, достойно
любые встретить времена,
когда эпоха то застойна,
то взбаламучена до дна.
Достойно, главное, достойно,
чтоб раздаватели щедрот
не довели тебя до стойла
и не заткнули сеном рот.
Страх перед временем — паденье,
на трусость душу не потрать,
но приготовь себя к потере
всего, что страшно потерять.
И если все переломалось,
как невозможно предрешить,
скажи себе такую малость:
«И это надо пережить…»
ЕВДОКИЯ ЛОПУХИНА
Ты ли против царя заговорщица,
Евдокия Лопухина?
Ты хотела себя завороженно
протянуть ему в лапушках: «На!»
Ты хотела бы в дождик реденький
с государем ходить по грибы
и не Питером — просто Петенькой
называть, дозволяя грехи.
Ты дрожала, как будто на мостике,
над пучиною срамоты.
Больше, чем к распроклятой Монсихе,
ревновала к империи ты.
Эту ревность быстрехонько вынюхали,
зубы желтенькие востря,
словно черные крысы, инокини,
прогрызая ботфорты царя.
Сказки ревности бабьей не сказываются,
а вынашиваются, как месть.
Если бабы в политику ввязываются,
значит, бабья обиженность есть.
Ох как ты подзапуталась, Дунечка,
в заточенье оставшись ни с чем.
В политесе была ты дурочка,
а в политике — и совсем.
Ты свой крик затыкала подушкою,
билась об стену головой.
Разве заговор — бабья падучая?
Разве заговор — бабий вой?
Ты до скрежета до зубовного
доходила во вдовьем аду:
«Даже Монсиха полюбовника
завела — ну и я заведу».
Без смущения благолепного,
от отчаянья став чумной,
ты шептала майору Глебову
во грехе:
«Государь ты мой…»
Ну какая же ты заговорщица,
так ища императорских уст,
распустешная,
в горе корчащаяся
и бессмысленно верная Русь?
ИВАНОВСКИЕ СИТЦЫ
ПОЭМА
С колыбели
голубели
у Ивана-дурака
под бровями два хитрючих,
два живучих василька.
Во веснушечной пшенице
эти цветики росли
на лице, как на землице
одураченной Руси.
Эти цветики шатали
взглядом — каждый барский дом.
Эти цветики шептали:
«Будут ягодки потом…»
Наливались,
баловались
у Ивана-дурака
два, хотя и подневольных,
колокольных кулака.
Их на гульбища и драки
зазывали кабаки,
чтоб, зверея, как собаки,
там сцеплялись кулаки,
но и даже водка-ведьма
наливала их сама
додемидовской медалью
матеревшего ума.
Были ушки на макушке
у Ивана-дурака.
А когда во рту, как тряпка,
лишь культяпка языка,
а язык воздела пика
над качаньем бердышей,
то лишить возможно крика,
но не разума ушей.
Можно в рот залезть, калеча, —
в уши хлопотней залезть.
Если нет свободы речи,
то свобода слуха есть.
А хребтина-сиротина
у Ивана-дурака
хоть синела,
да умнела
от мешка да батожка.
Можно выбить ум с мозгами
из любой башки дурной,
но не выбьешь батогами
мозг, когда он мозг спинной.
Ум рождается народный
не под чубом, не во лбу,
а в хребтине изнуренной,
во исхлестанном горбу…
Подползал во сне к Ивану
семиглавый нежный змей,
и шептал он, окаянный:
«Слишком умным быть не смей!
Всем царям и всем боярам
ум — опаснее крамол.
В башнях пыточных недаром
ум пускают на размол.
Целовальнику и свахе
ум спихни, да задарма.
Столько рощ пошло на плахи
для казнения ума!
Ум в петле и с шеей набок
выручать я не берусь.
На Руси ума не надо.
Хитрость — вот что ценит Русь.
Пусть раздето, пусть разуто —
проживи молчком, бочком.
Проживи, Иван, разумно:
с дураками — дурачком…»
А Иван с усмешкой — змею:
«Не ответствуй, змей, за Русь.
Дураком быть не сумею.
Дураком я притворюсь.
Ум не просится в огласку.
Чтоб не влипнуть мне впросак
я создам такую сказку,
где герой — Иван-дурак.
Но придурку с бубном, с пляской
ты меня не уподобь.
Эта сказка будет вязкой,
как сусанинская топь.
И о сказку русской голи
про Ивана-дурака
обломают поневоле
столько умников — рога!
Тайный ум всегда умнее,
чем умишко напоказ,
как порой вина хмельнее
в ноздри бьющий, злющий квас.
Мне мой ум, как не чужому,
говорит: „Побереги
мысли к праздничку большому,
как с ножами пироги“.
Я не стану торопиться.
Ум припрятанный остер,
как замотанный в тряпицу,
но отточенный топор.
Пусть, как я, в одежке драной
полежит он до поры,
до поры, когда Иваны —
в топоры…
Я Кощея потощее.
я беднее, чем Кощей,
но бессмертнее Кощея,
может быть, от кислых щей.
Я от хворостей не слягу —
я крестьянского ребра.
Я еще сварю на славу
бунт, как щи из топора.
Прыгну в бунт со всеми вшами,
но и выйду из котла
ведь и собственными щами
не сожжешь меня дотла.
Это тяжко — притворяться
мужичком да простачком
и опасно придуряться:
вдруг да станешь дурачком,
но зато потом заставишь
горько каяться в веках
всех, кого ты сам обставишь
и оставишь в дураках…»
Государь Иван Васильевич Грозный
мало хаживал
по травушке росной,
а все больше по коврам,
да по трупам,
да по мрамору —
с кровавым прихлюпом.
Государь Иван Васильевич Грозный
редко слушал соловьев
ночью звездной.
Чьи-то крики —
или в башнях, или в яме —
были царскими ночными соловьями.
Но однажды государь
был разбужен
не похмельным животом,
вконец разбухшим
от медов да пирогов с вязигой, —
а подметной соловьиной музыкой.
Тонок был тот одинокий голос,
но живой,
как будто дышащий волос
на щербатом топоре после казни,
и царю он пел из мглы:
«Кайся,
кайся!..»
И покинул государь опочивальню.
В сад прокрался он, босой,
в рубахе длинной,
принимая в страхе
это бичеванье
уцелевшей чудом
песни соловьиной.
Думал царь,
обрывая повилику:
«Да, у них — у соловьев — другие страсти.
Соловьиным обделен я,
поелику
наделен от Бога бармами власти.
Ну а если эта власть не от Бога,
а от дьявола?»
Он вздрогнул:
«Ересь, ересь…
Ты отступник, соловей.
Ты лжешь убого.
Власть божественна.
Я в ней не разуверюсь!»
Государь в саду запутался, как в чаще,
и, певца ища когтями по-зверьи,
прохрипел он соловью:
«Я несчастен,
потому что никому не верю…»
И, столкнувшись на тропинке узковатой
с государем,
думный дьяк Висковатый
притворился,
что не слышал ни словечка.
(Правда, это не спасло его навечно.)
И сивухой опричники дышали,
тужась, яблони трясли и березы,
лишь впустую сбивая бердышами
аксамитово-жемчужные росы.
Висковатый сделал хитрую попытку
прекратить
соловьиную пытку.
Можно,
гнев царя учуяв песьим носом,
заглушить и соловья
доносом.
«Государь…—
промолвил дьяк Висковатый
с вороватой повадкой,
тороватой. —
Есть сумленье у меня
в печатном деле:
как бы мы проруху в нем не проглядели».
Государь Иван Васильевич Грозный
все же был Ивана Федорова крестный.
Самолично клал под пресс бумагу дерптскую
и разглядывал,
тая улыбку детскую,
и показывал гостям заморским званым:
«Вот какие наши русские Иваны…»
Царь насупился:
«Какая тут проруха?»
«А проруха
от печатного духа.
Ежли будет книг во множестве великом,
то холопы уподобятся владыкам.
Ну, а вдруг в башку втемяшится Ивашке
отпечатывать подметные бумажки?
Рукописное —
и то опасно словушко,
а печатное —
слышнее, чем соловушка.
Почивать оно тогда не даст и вовсе…»
Царь задумался:
«Ты, дьяк, не суесловься.
Есть ли письма те подметные
аль нету?»
«Могут быть…
Закрой ты, царь, печатню эту».
«А Ивашка?
Длань моя карать устала».
«Намекнем.
Дадим в дорогу сала».
Государь Иван Васильевич Грозный
был умен,
хоть и не был умным прозван.
Пил и пил он в эту ночь,
лицом хмурея,
но его не утешала романея.
Темным людом править —
станешь сам тупица.
Править грамотными?
Лучше утопиться.
Вишни-яблони срубить под самый корень,
чтобы слуха соловей не беспокоил?
Срубишь —
будет петь на иве,
на раките.
Царь был добр к Ивашке.
Молвил:
«Намекните».
И намекнули.
Федоров Иван
прощался с государевой печатней,
и литеры,
спеша,
в мешок совал —
их пощадили редкостной пощадой.
Лист подобрал.
Расправил уголок.
На нем поставил жирно и гвоздасто
опричника подкованный сапог печать
благодаренья государства.
Подметных писем в штанбе[5] не нашли,
но ведь в глазах опричнины подметна
любая буква,
в коей соль земли,
а не лукавство льстительного меда.
До глубины жестоко уязвлен,
Иван собрал подводу —
и с подворья.
И — может быть, впервые в жизни — он
свободу мыслям тайным дал от горя:
«Как я верой в государство себя тешил,
свою голову почтительно склоня.
Государства не расстреливал, не вешал,
а оно немножко вешало меня.
Перед светлыми очами государства
говорю, не ждущий правого суда:
недостоин я подобного коварства,
ибо не был сам коварным никогда.
Государство, я тебя любить старался,
я хотел тебе полезным быть всерьез,
но я чувствовал, что начисто стирался,
если слушался тебя, как палки пес.
Государство, ты всегда холопство, барство,
царство лести, доносительство, вражда.
Чувство родины и чувство государства
в человеке не сольются никогда».
Ты понял бы,
великий Гутенберг,
всю прелесть жизни русского коллеги,
когда он изгнан из Москвы,
поверх
груженной только буквами телеги?
Ты понял бы,
прихлебывая кирш,
как взвыл Иван в рукав,
никем не слышим,
когда ему,
как будто шавке:
«Кыш!» —
да хорошо,
что обошелся «кышем».
Куда теперь тащить свои шрифты,
бездомные печатальные доски?
И корчился Иван от немоты,
как столькие неведомые тезки.
Кто примет на чужбине,
кто поймет,
что русские —
не просто гужееды?
Князь Курбский? —
Это царь наоборот.
А шведы —
это все же только шведы.
Грязь,
всюду грязь,
как землю ни меси.
Свобода подозрительно острожна.
Жить невозможно русским на Руси,
а без Руси и вовсе невозможно.
Как гусляры, блукали облака.
Дорога, сыро пахнущая глиной,
как сказка про Ивана-дурака,
была такой извилистой и длинной.
И вдруг над рощей раскатился свист,
и, на дорогу выскочив наметом,
перед Иваном всадники взвились,
но у седла —
ни песьих морд,
ни метел.
Один —
он, видно, был у них старшой,
дыша ноздрями рваными хрипато,
ожогами покрытый, как паршой,
«Чего везешь?» — спросил.
«Все мое злато».
Продрав рогожу саблей сгоряча,
старшой узрел свинец:
«Что в клади?»
«Буквы».
«Для ча?»
«Для книг».
«А книги-то для ча?»
«Да для тебя, дурак…» —
печатник буркнул.
«Ах, для меня! —
старшой загоготал. —
Да я бы позапутался кромешно,
когда бы я моей рваниной стал
смысл букв твоих вынюхивать прилежно.
А вот свинец
действительно хорош —
нам подойдет под пули для пищалей…»
«Не дам!»
«Тогда убью тебя».
«Убьешь —
не станешь вольным от своих печалей».
«Кто вольный?
Воли нет и у ворья,
и даже у расстриг — спроси расстригу.
Так через что же вольным стану я?»
«Как через что?
А через букву,
книгу…»
Старшой смекнул:
нет, это не купец.
Такое злато отбирать постыдно.
Ведь под ногтями не земля —
свинец,
но тот свинец —
его земля, как видно.
«Живи… —
сказал старшой, прямясь в седле. —
Пускай стреляют эти —
как их? —
буквы
и без пищалей —
сами по себе,
но чтобы после — кровь,
да не из клюквы…»
«Все кровью в мире этом не решишь…» —
вздохнул печатник.
«Я не травоядный, —
осклабился старшой. —
Я — Ванька Шиш».
«И я — Иван».
«Иван — и царь треклятый.
Дошла до нас,
людей гулящих,
весть,
что присланная из-за окиянов
Ивангелье — такая книга есть.
Там про царя
или про всех Иванов?»
«Е-вангелье…»
«Так, значит, что ж — обман?
Видать, для книг мы недостойны слишком?
Но ты печатай книги нам,
Иван,
а мы, авось, подучимся буквишкам…»
И ускакали,
по бокам огрев
коней плетьми,
и это означало,
что и в своей неграмотности гнев —
уже народной грамоты начало.
«Ивангелью еще придет черед… —
Иван подумал. —
Еще будут бунты…»
А за плечьми
на сотни лет вперед
в его телеге
грохотали буквы…
«Russischer Иван
grossischer болван…» —
ворчал
у петровских ботфорт
забрызганный грязью Лефорт..
А царь на него покосился,
да так,
что взглядом сломал,
как в ладони пятак,
ведя
и фортеций
и девок осмотр:
«Я тоже Иван,
хотя я и Петр».
Душа у Лефорта была чуть жива,
и страх
на манжетах затряс кружева.
Такого царя
и словечком не тронь:
казнит —
не получишь и гроб с него!
Ивана особого тень за Петром —
Грозного.
И даже в Меншикове Алексашке
ивано-грозненские замашки.
Того и гляди —
сотрет в порошок,
хотя и хапают не по ранжиру
ладони
с таким неотмытым жиром,
что хочется свистнуть:
«И мне пирожок!»
Лефорт раздавленно плюхнулся в розвальни,
и дергался
судорожно
кадык,
как будто посох Ивана Грозного
ему острием
воткнулся под дых…
И не спалось Лефорту ночью
в санях,
влачившихся трусцой.
На дыбе страха позвоночник
хрустел знакомою хрустцой.
Снег пополам с прокисшей грязью
лежал трясиной на Руси.
И так Лефорт подумал:
«Разве
Россию вырвать из грязи?
Все эти потные попытки
толкать Россию,
навалясь,
возможны только через пытки,
а пытки —
это снова грязь.
Где я?
В страшнейшей из кунсткамер,
где слизь кровавая оков,
где плоть кричащими кусками
свисает скорченно с крюков.
Не терпит царь самосожженцев
не меньше подлого ворья,
но Анна чувствует по-женски
самосожженчество царя.
Он в казнях выявил ученость,
но и в самом его лице
вдруг проступает обречен