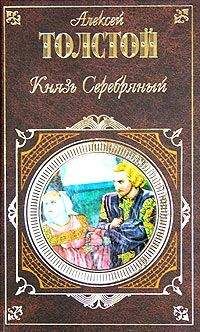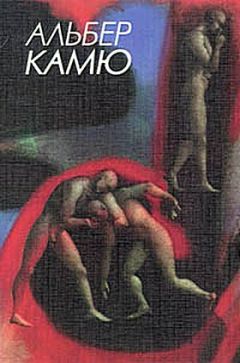Евгений Евтушенко - Окно выходит в белые деревья...
МЕТАМОРФОЗЫ
Детство — это село Краснощеково,
Несмышленово, Всеизлазово,
Скок-Поскоково, чуть Жестоково,
но Беззлобнино, но Чистоглазово.
Юность — это село Надеждино,
Нараспашкино, Обольщаньино,
ну а если немножко Невеждино, —
все равно оно Обещаньино.
Зрелость — это село Разделово:
либо Схваткино, либо Пряткино,
либо Трусово, либо Смелово,
либо Кривдино, либо Правдино.
Старость — это село Усталово,
Понимаево, Неупреково,
Забывалово, Зарасталово
и — не дай нам Бог — Одиноково.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Есть русскость выше, чем по крови,
как перед нравственным судом,
родившись русским, при погроме
себя почувствовать жидом.
Но на Руси ища Вандею,
в иконы пулями плюясь,
пошли в чекисты иудеи,
как черносотенная мразь.
Всех заодно одемократив,
потом, как шлак, в один барак
швыряли вас, как равных братьев,
Иван-дурак, Исак-дурак.
Народов братство было люто.
Шли по велению вождя
то русский, то грузин в Малюты,
грузин, как русских, не щадя.
Власть соловецкая давила
народ с помещичьим смешком,
как лапотком лжерусофила,
кавказско-римским сапожком.
И прежде выбитый, внедрялся,
как шагистический недуг,
дух офицерства, генеральства,
не русский дух, а прусский дух.
Куда, пути не различая,
ты понеслась по крови луж,
Русь — птица-тройка «чрезвычайки»,
кренясь от груза мертвых душ?
И несмотря на лавры в битвах,
в своей стране ведя разбой,
собою были мы разбиты,
как Рим разгромлен был собой.
И даже у ракет российских
был в судных всполохах зарниц
звук угрожающий раздрызга
последних римских колесниц.
Неужто русские, обрюзгнув,
свое падение проспят,
и в новом Риме — русско-прусском
произойдет сплошной распад?
Но есть еще в Россию вера,
пока умеют русаки
глазами чеха или венгра
взглянуть на русские штыки.
России внутренняя ценность
не в реставрации церквей,
а чтобы в нравственность, как в церковь,
водили мы своих детей.
Безнравственность — уже не русскость,
но если нравственность жива,
Россия выстоит, не рухнет,
отринет римский путь Москва.
А новый Рим — невозвратимо
пускай развалится в грязи…
Где на Руси паденье Рима,
там — возрождение Руси.
Это стихотворение о неминуемом развале имперских структур было напечатано лишь через 17 лет…
ТАЙНА ТРУБАДУРА
Помимо той прекрасной дамы,
играющей надменно гаммы
на клавесинах во дворце,
есть у любого трубадура
от всех скрываемая дура,
но с обожаньем на лице.
Стыдится он ее немножко,
но у нее такая ножка,
что заменяет знатность, ум.
Порою дура некрасива,
но трогательно неспесива,
когда приходишь наобум.
Она юбчоночку снимает.
Боль трубадура понимает,
ему восторженно внимает,
все делает, что он велит,
порою чуточку краснея…
И трубадур утешен.
С нею
он — просто он, и тем велик.
ОЛЬХОВАЯ СЕРЕЖКА
Д. Батлер
Уронит ли ветер
в ладони сережку ольховую,
начнет ли кукушка
сквозь крик поездов куковать,
задумаюсь вновь,
и, как нанятый, жизнь истолковываю,
и вновь прихожу
к невозможности истолковать.
Себя низвести
до пылиночки в звездной туманности,
конечно, старо,
но поддельных величий умней,
и нет униженья
в осознанной собственной малости —
величие жизни
печально осознано в ней.
Сережка ольховая,
легкая, будто пуховая,
но сдунешь ее —
все окажется в мире не так,
и, видимо, жизнь
не такая уж вещь пустяковая,
когда в ней ничто
не похоже на просто пустяк.
Сережка ольховая
выше любого пророчества.
Тот стане другим
кто тихонько ее разломил.
Пусть нам не дано
изменить все немедля, как хочется, —
когда изменяемся мы,
изменяется мир.
И мы переходим
в какое-то новое качество,
как вдаль отплываем
к неведомой новой земле,
и не замечаем,
что начали странно покачиваться
на новой воде
и совсем на другом корабле.
Когда возникает
беззвездное чувство отчаленности
от тех берегов,
где рассветы с надеждой встречал,
мой милый товарищ,
ей-Богу, не надо отчаиваться —
поверь в неизвестный,
пугающе черный причал.
Не страшно вблизи
то, что часто пугает нас издали.
Там тоже глаза, голоса,
огоньки сигарет.
Немножко обвыкнешь,
и скрип этой призрачной пристани
расскажет тебе,
что единственной пристани нет.
Яснеет душа,
переменами неозлобимая.
Друзей, не понявших
и даже предавших — прости.
Прости и пойми,
если даже разлюбит любимая,
сережкой ольховой
с ладони ее отпусти.
И пристани новой не верь,
если станет прилипчивой.
Призванье твое —
беспричальная дальняя даль.
С шурупов сорвись,
если станешь привычно привинченный,
и снова отчаль
и плыви по другую печаль.
Пускай говорят:
«Ну когда он и впрямь образумится!»
А ты не волнуйся —
всех сразу нельзя ублажить.
Презренный резон:
«Все уляжется, все образуется…»
Когда образуется все —
то и незачем жить.
И необъяснимое —
это совсем не бессмыслица.
Все переоценки
нимало смущать не должны, —
ведь жизни цена
не понизится
и не повысится —
цена неизменна тому,
чему нету цены…
…С чего это я?
Да с того, что одна бестолковая
кукушка-болтушка
мне долгую жизнь ворожит.
С чего это я?
Да с того, что сережка ольховая
лежит на ладони
и, словно живая,
дрожит…
«Достойно, главное, достойно…»