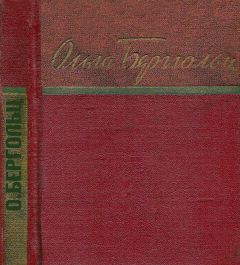Дмитрий Мережковский - Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая
Среди каких утрат, забот,
И после скольких эпитафий,
Теперь, воздушная, всплывет
И что закроет в свой черед
Тень соррентинских фотографий?
5 марта 1925 — 26 февраля 1926
Баллада
Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.
Мне лиру ангел подает,
Мне мир прозрачен, как стекло, —
А он сейчас разинет рот
Пред идиотствами Шарло.
За что свой незаметный век
Влачит в неравенстве таком
Беззлобный, смирный человек
С опустошенным рукавом?
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Безрукий прочь из синема
Идет по улице домой.
Ремянный бич я достаю
С протяжным окриком тогда
И ангелов наотмашь бью,
И ангелы сквозь провода
Взлетают в городскую высь.
Так с венетийских площадей
Пугливо голуби неслись
От ног возлюбленной моей.
Тогда, прилично шляпу сняв,
К безрукому я подхожу,
Тихонько трогаю рукав
И речь такую завожу:
«Pardon, monsieur, когда в аду
За жизнь надменную мою
Я казнь достойную найду,
А вы с супругою в раю
Спокойно будете витать,
Юдоль земную созерцать,
Напевы дивные внимать,
Крылами белыми сиять, —
Тогда с прохладнейших высот
Мне сбросьте перышко одно:
Пускай снежинкой упадет
На грудь спаленную оно».
Стоит безрукий предо мной
И улыбается слегка,
И удаляется с женой,
Не приподнявши котелка.
Июнь — 17 августа 1925
Из дневника
Должно быть, жизнь и хороша,
Да что поймешь ты в ней, спеша
Между купелию и моргом,
Когда мытарится душа
То отвращеньем, то восторгом?
Непостижимостей свинец
Всё толще над мечтой понурой, —
Вот и дуреешь наконец,
Как любознательный кузнец
Над просветительной брошюрой.
Пора не быть, а пребывать,
Пора не бодрствовать, а спать,
Как спит зародыш крутолобый,
И мягкой вечностью опять
Обволокнуться, как утробой.
1–2 сентября 1925
Звезды
Вверху — грошовый дом свиданий.
Внизу — в грошовом «Казино»
Расселись зрители. Темно.
Пора щипков и ожиданий.
Тот захихикал, тот зевнул…
Но неудачник облыселый
Высоко палочкой взмахнул.
Открылись темные пределы,
И вот — сквозь дым табачных туч —
Прожектора зеленый луч
На авансцене, в полумраке,
Раскрыв золотозубый рот,
Румяный хахаль в шапокляке
О звездах песенку поет.
И под двуспальные напевы
На полинялый небосвод
Ведут сомнительные девы
Свой непотребный хоровод.
Сквозь облака, по сферам райским
(Улыбочки туда-сюда)
С каким-то веером китайским
Плывет Полярная Звезда.
За ней вприпрыжку поспешая,
Та пожирней, та похудей,
Семь звезд — Медведица Большая —
Трясут четырнадцать грудей.
И, до последнего раздета,
Горя брильянтовой косой,
Вдруг жидколягая комета
Выносится перед толпой.
Глядят солдаты и портные
На рассусаленный сумбур,
Играют сгустки жировые
На бедрах Etoile d'amour[63],
Несутся звезды в пляске, в тряске,
Звучит оркестр, поет дурак,
Летят алмазные подвязки
Из мрака в свет, из света в мрак.
И заходя в дыру всё ту же,
И восходя на небосклон, —
Так вот в какой постыдной луже
Твой День Четвертый отражен!..
Не легкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.
23 сентября — 19 октября 1925
Петербург
Напастям жалким и однообразным
Там предавались до потери сил.
Один лишь я полуживым соблазном
Средь озабоченных ходил.
Смотрели на меня — и забывали
Клокочущие чайники свои;
На печках валенки сгорали;
Все слушали стихи мои.
А мне тогда в тьме гробовой, российской,
Являлась вестница в цветах,
И лад открылся музикийский
Мне в сногсшибательных ветрах.
И я безумел от видений,
Когда чрез ледяной канал,
Скользя с обломанных ступеней,
Треску зловонную таскал.
И, каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.
12 декабря 1925
Дактили
Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
Бруни его обучал мягкою кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
В летнем пальтишке зимой перебегал он Неву.
А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,
Много он там расписал польских и русских церквей.
Был мой отец шестипалым. Такими родятся счастливцы.
Там, где груши стоят подле зеленой межи,
Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит,
В бедной, бедной семье встретил он счастье свое.
В детстве я видел в комоде фату и туфельки мамы.
Мама! Молитва, любовь, верность и смерть — это ты!
Был мой отец шестипалым. Бывало, в «сороку-ворону»
Станем играть вечерком, сев на любимый диван.
Вот на отцовской руке старательно я загибаю
Пальцы один за другим — пять. А шестой — это я.
Шестеро было детей. И вправду: он тяжкой работой
Тех пятерых прокормил — только меня не успел.
Был мой отец шестипалым. Как маленький лишний мизинец
Прятать он ловко умел в левой зажатой руке,
Так и в душе навсегда затаил незаметно, подспудно
Память о прошлом своем, скорбь о святом ремесле.
Ставши купцом по нужде — никогда ни намеком, ни словом
Не поминал, не роптал. Только любил помолчать.
Был мой отец шестипалым. В сухой и красивой ладони
Сколько он красок и черт спрятал, зажал, затаил?
Мир созерцает художник — и судит, и дерзкою волей,
Демонской волей творца — свой созидает, иной.
Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил,
Не созидал, не судил… Трудный и сладкий удел!
Был мой отец шестипалым. А сын? Ни смиренного сердца,
Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки
Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту,
Ставит на слово, на звук — душу свою и судьбу…
Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым размером
И шестипалой строфой сын поминает отца.
Январь 1927 — 3 марта 1928
«Сквозь ненастный зимний денек…»
Сквозь ненастный зимний денек —
У него сундук, у нее мешок —
По паркету парижских луж
Ковыляют жена и муж.
Я за ними долго шагал,
И пришли они на вокзал.
Жена молчала, и муж молчал.
И о чем говорить, мой друг?
У нее мешок, у него сундук…
С каблуком топотал каблук.
Январь 1927
Ночь
Измученные ангелы мои!
Сопутники в большом и малом!
Сквозь дождь и мрак, по дьявольским кварталам
Я загонял вас. Вот они,
Мои вертепы и трущобы!
О, я не знаю устали, когда
Схожу, никем не знаемый, сюда,
В теснины мерзости и злобы.
Когда в душе всё чистое мертво,
Здесь, где разит скотством и тленьем,
Живит меня заклятым вдохновеньем
Дыханье века моего.
Я здесь учусь ужасному веселью:
Постылый звук тех песен обретать,
Которых никогда и никакая мать
Не пропоет над колыбелью.
11 октября 1927