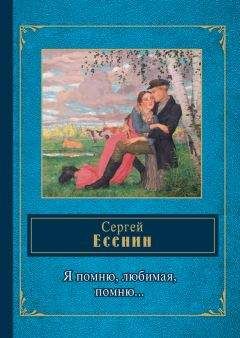Уильям Шекспир - Поэмы и стихотворения
ВЕНЕРА И АДОНИС
Перевод Б.Томашевского
Vilia miretur vulgus; mihi flavus Apollo
Pocula Casialia plena ministret aqua.
Ovid., I. Am., XV, 35[10]Его милости ГЕНРИ РАЙОТСЛИ,
герцогу СОУТЕМПТОНУ,
барону ТИЧФИЛДУ
Ваша милость,
я сознаю, что поступаю весьма дерзновенно, посвящая мои слабые строки вашей милости, и что свет осудит меня за избрание столь сильной опоры, когда моя ноша столь легковесна; но, если ваша милость удостоит меня своим благоволением, я сочту это высочайшей наградой и клянусь посвятить все свое свободное время и неустанно работать до тех пор, пока не создам в честь вашей милости какое-нибудь более серьезное творение. Но если этот первенец моей фантазии окажется уродом, я буду сокрушаться о том, что у него такой благородный крестный отец, и никогда более не буду возделывать столь неплодородную почву, опасаясь снова собрать такой плохой урожай. Я предоставляю свое детище на рассмотрение вашей милости и желаю вашей милости исполнения всех ваших желаний на благо мира, возлагающего на вас свои надежды.
Покорный слуга вашей милости
Уильям Шекспир
Как только диска солнечного
Швырнул в пространство плачущий восход,
Уже Адонис на охоте с псами…
Увлекшись ловлей, он любовь клянет.
Его Венера мрачная догнала
И, словно дерзкий жалобщик, пристала.
"О ты, кто для меня всего милей,
Цветок полей и воплощенье грезы,
Ты лучше нимф, ты краше всех людей,
Белее голубка, алее розы!
Ты одарен такою красотой,
Что мир погибнет, разлучась с тобой.
Сойди с седла, мой милый, поскорее
К стволу уздою привяжи коня!
Меня порадуй милостью своею
И сотни тайн узнаешь от меня.
Приди и сядь, здесь не таятся змеи…
Я докажу, как целовать умею!
Пусть губ нам пресыщенье не замкнет,
Пусть голодом томятся в изобилье…
В них бледность или алость расцветет,
Чтоб счет мы поцелуям позабыли…
И летний день мелькнет, как быстрый час,
В забавах упоительных для нас!"
Она хватает потные ладони
Веселого и крепкого юнца
И эти руки в исступленном стопе
Бальзамом именует без конца…
Такая вдруг в ней объявилась сила,
Что прочь с коня она его стащила.
Уже в одной руке у ней узда,
Другою сжато юноши дыханье…
Он покраснел, сгорая от стыда,
Но в нем молчит свинцовое желанье.
Она, как уголь в пламени, цветет,
Он красен от стыда, но в страсти — лед!
Уздечку пеструю на куст колючий
Она швырнула… Как любовь быстра!
Привязан копь, и вот удобный случай:
Ей всадника теперь сковать пора…
Ей хочется его отдаться власти,
Но он не разделяет пылкой страсти.
На локти и колени опершись,
Она тотчас же рядом с ним ложится…
Он в гневе, но она ему: "Не злись!"
И так и не дает ему сердиться.
Целуя, говорит она ему:
"Браниться станешь — рот тебе зажму!"
Он от стыда горит… Она слезами
Спешит залить невинный пламень щек.
И в вихре вздохов над его щеками
Волос струится золотой поток.
Он тщетно к скромности ее сзывает,
Но поцелуй моленье заглушает.
И, как орел голодный, кости, жир,
Н даже перья клювом все терзает
И до тех пор, пока не кончит пир,
Крылами бьет и жертву пожирает, —
Так и она целует в лоб и в рот
И, чуть закончит, сызнова начнет.
Но все ж, под гнетом силы непослушный,
Лежит в жару он, тяжело дыша,
Ей мил его дыханья воздух душный,
Небесной влаги ждет ее душа…
Ей хочется, чтоб щеки стали садом,
Чтоб дождь росы на них излился градом.
Взгляни на птицу, пойманную в сеть!
Так юноша в объятьях стиснут ею…
И стыд и гнев в нем начинают тлеть,
Но делают его еще милее.
Так дождь, из туч пролившись над рекой,
Вскипает в ней бушующей волной.
И вновь Венера нежно умоляет,
Чтоб в слух ему вошел любви напев…
Но он угрюм, досада в нем пылает,
В нем бьются алый стыд и бледный гнев.
Он, алый, мил ей — но ей щеки эти
И бледные милей всего на свете.
Любовь — ей всє, ему же все равно…
Она своим бессмертием клянется,
Что вместе быть им вечно суждено…
Когда ж ее слезам он улыбнется?
Они струятся, щеки затопив,
Но им отвергнут пламенный порыв.
Услышав это, взор он поднимает…
И как, из волн мелькнув на миг, нырок,
Замеченный, обратно вглубь ныряет,
Так он готов ей дать любви залог…
Она у губ его губами бродит,
Но он, зажмурясь, губы вновь отводит.
Нет, никогда и путник в летний зной
Так не искал воды, томясь в пустыне…
Спасенье есть, но путь к нему крутой:
Она в воде, но пламя жжет богиню.
"О, сжалься, мальчик с сердцем, как кремень!
Ужель тебе и целоваться лень?
Меня молил, как ныне я взываю,
Сам бог войны суровый о любви…
Он был могуч… Над битвами летая,
Он побеждал, весь в прахе и крови…
Мой раб, он умолял самозабвенно
О том, что я отдам тебе мгновенно.
На мой алтарь копье повесил он,
И крепкий щит, и шлем непобедимый,
И стал учиться, мною покорен,
Играть, резвиться и шутить с любимой.
В объятьях обретя желанный бой,
Расстался он с гремящею войной.
Так властелин склонился предо мною,
На цепи розовой он взят в полон…
Покорствует ему копье стальное,
Но пал перед моим презреньем он.
О, не гордись, не хвастай тайной силой,
Владея той, кто бога битв пленила.
Губами влажными коснись моих,
Мои не так милы, но все же алы,
Пусть пламя поцелуев вспыхнет в них…
Зачем же никнет голова устало?
Взгляни в глаза, в них блеск красы твоей,
Н губы, как глаза, с губами слей.
Стыдишься целовать? Сомкни ресницы,
И вместо дня настанет в мире ночь…
Для двух в любви чудесное таится!
Мы здесь одни, отбрось же робость прочь.
Фиалки ни нарочно, ни случайно
Не разгласят по свету нашей тайны.
Над милыми губами нежный пух
Еще незрел! Но ждут тебя услады…
Не упускай мгновенья, милый друг,
Нет, красоты своей губить не надо.
Ведь если роз в расцвете не сорвут,
Они в саду увянут и сгниют.
Вот если бы старухою была я:
Сухая, хриплая, с кривой спиной,
Морщинистая, мерзкая, больная,
Костлявая, с седою годовой, —
Там ты бы мог и не искать блаженства,
Но ты ведь ненавидишь совершенство!
На лбу белейшем ни морщинки нет,
Глаза лукавым огоньком блистают,
Здесь красота не знает грозных бед,
А тело нежное, как в зное, тает,
И влажная рука — попробуй тронь! —
Расплавится, скользя в твою ладонь.
Лишь попроси, я слух твой очарую,
Как фея, я порхаю по траве,
Иль, словно нимфа, на песке танцую
Неслышно, с вихрем кос на голове…
Любовь взлетает в воздух, словно пламя,
Она стремится слиться с небесами!
Взгляни на берег — он похож на сад…
Лежу — цветы не мнутся подо мною.
Два голубя меня по небу мчат,
И жизнь моя весь день полна игрою…
Мой милый, мне любовь легка, светла, —
Ужель тебе она так тяжела?
Но любит ли одна рука другую?
Ты разве сам пленен своим лицом?
Ну что ж, блаженство у себя воруя,
Люби себя в безумии пустом!
Так к Нарцисс погиб в одно мгновенье,
В ручье свое целуя отраженье.
Для блеска создан факел и алмаз,
А девы юные — чтоб их любили,
Настой из трав — чтоб хворь прогнать от нас.
Как жалки только для себя усилья!
Рождать — вот долг зерна и красоты,
Ты был рожден, теперь рождай и ты!
Но как ты смеешь брать блага земные,
Не одарив ничем земли взамен?
Нужны природе существа живые,
Они переживут твой прах и тлен.
Ты, бросив смерти вызов, будешь вечно
В потомстве воскресать и жить, конечно".
Они уже лежали не в тени…
Царица, упоенная, вспотела.
Заметив, где скрываются они,
Сам бог Титан, от зноя разомлелый,
Мечтал отдать Адонису коней,
А сам к Венере — и улечься с ней.
Адонис ленью тягостной томится,
В его глазах унынье, мрак, тоска…
И ясный взор в нем постепенно тмится, —
Так небо застилают облака.
Он молвил ей: "Довольно препираться!
Лицо пылает, время отправляться!"
Она в ответ: "Так юн и так жесток!
Что скажешь ты, скрываясь, в оправданье?
Небесных вздохов нежный ветерок
Пусть охладит нам зноя колыханье.
Из кос густых я тень тебе создам,
А если вспыхнут — волю дам слезам!
Не так силен палящий отблеск зноя,
Ведь я меж солнцем и тобой лежу,
Ничуть не тяготясь такой жарою,
Но в пламень глаз твоих с тоской гляжу.
Будь смертной я, погибла б рядом с милым
Меж солнцем в небе и земным светилом.
Ты крепок как кремень, ты тверд как сталь,
Нет, даже крепче: камни дождь смягчает.
Ты женщины ли сын? Тебе не жаль
Смотреть, как женщину любовь сжигает?
О, если б мать твоя такой была,
Она б тогда бездетной умерла.
За что меня надменно презираешь?
Ужель опасность здесь тебе грозит?
Ну что от поцелуя ты теряешь?
Ответь нежней, иль пусть язык молчит.
Дай поцелуй, и вновь его верну я
С процентами второго поцелуя.
О идол размалеванный, тупой,
О мертвый лик, холодный камень ада,
Не женщиной рожден на свет земной,
Как статуя, ты лишь для глаз услада!
Нет, на мужчину вряд ли ты похож,
У них ведь поцелуй всегда найдешь!"
Но страсть ей не дает сказать ни слова,
Сковало нетерпенье ей язык,
Румянец щек и пламень глаз ей снова
Наносят вред, который столь велик:
То плачет, то безмолвием томится,
То снова слезы начинают литься.
То головой тряхнет, то руку жмет,
То на него косится, то на землю,
И хоть рукой, как лентой, обовьет,
Он рвет объятья, жалобам не внемля.
Но вырваться не может — сплетена
Кругом лилейных пальцев белизна.
"О милый, говорит, прилег ты ныне
Там, где белей слоновой кости грудь…
Пасись где хочешь — на горах, в долине, —
Я буду рощей, ты оленем будь.
И вновь с холмов бесплодных, безотрадных
Спустись попить в источниках прохладных.
Почаще в тайных уголках броди,
Цветущая долина мхом увита…
Холмы крутые, чаща впереди —
Здесь все от бурь и от дождей укрыто.
Оленем стань и в роще здесь гуляй,
Сюда не долетит собачий лай".
Адонис усмехается с презреньем,
Две ямочки мелькнули на щеках…
Любовь их перед гибельным мгновеньем
Изваяла, чтоб победить свой страх.
Теперь она спокойна, твердо зная,
Что не грозит ей гибель никакая.
Отверзли зев, любви ее грозя.
Заветные, волшебные пещеры.
Убитого сразить уже нельзя…
Что вымолвит безумная Венера?
Что может для царицы быть страшней:
Любить того, кто равнодушен к ней!
Но страсть ей не дает сказать ни слова,
Слов больше нет, все жгуче ярость мук…
Его не удержать, уходит время,
Он вырывается из цепких рук.
Венера стонет: "Дай мне насладиться!"
Но он, вскочив, к коню стрелою мчится.
И вдруг откуда-то из-за кустов —
Кобыла молодая, в гордой неге
Почуяв жеребца, под звон подков
Храпит и ржет в неукротимом беге.
И к ней рванувшись, дикий жеребец,
Сорвав узду, умчался наконец.
Он скачет, ржет и яростно играет,
Подпругу тканую в куски крошит,
Копытом, раня землю, ударяет,
И будто гром из гулких недр звучит…
Мундштук железный он грызет зубами:
То, что гнетет, должны мы свергнуть сами!
Он уши навострил, и волны льет
По шее пышная, густая грива,
Как горн, он грозным жаром обдает,
Он воздух пьет ноздрями горделиво.
А взор его, как пламень, затаил
В себе неистовство, отвагу, пыл.
То рысью мчится, поступь ускоряя,
С изящной, скромной, гордой простотой,
То встанет на дыбы, в прыжках играя,
Как бы твердя: "Вот я какой лихой!
Пусть удаль молодецкая пленяет
Лошадку, что за мною наблюдает".
Да что ему гнев всадника, укор
И льстивое: "Да ну же!" иль "Куда ты?"
Что удила, что ярость острых шпор,
Седло, и сбруя, и чепрак богатый?
Он видит только цель своих услад,
И больше ничего не видит взгляд.
Когда художник превзойти стремится
Природу, в красках написав коня,
Он как бы с ней пытается сразиться,
Живое мертвым дерзко заменя…
Но конь живой — чудесное созданье!
В нем все прекрасно: сила, пыл, дерзанье.
С широкой грудью, с тонкой головой,
С копытом круглым, с жаркими глазами,
С густым хвостом, с волнистою спиной,
С крутым крестцом, с упругими ногами —
Был конь прекрасен! Нет изъянов в нем…
Но где же всадник, властный над конем?
Он вздрогнет, если перышко взлетает,
Порой отпрянет он, порой замрет,
Куда он бросится — никто не знает,
И, с ветром споря, мчится он вперед.
И ветер свищет над хвостом и гривой,
Как веер, шерсть взметая торопливо.
Он тянется к лошадке, звонко ржет,
И, все поняв, ответно ржет кобыла,
И, хоть приятен ей такой подход,
Она упрямится — не тут-то было! —
И отвергает яростный порыв,
Копытами наскоки отразив.
И вот уж недовольный, безотрадный,
Хлеща по бедрам яростно хвостом,
Чтоб жаркий круп укрыть в тени прохладной,
Он бьет копытом, мух кусая ртом.
Увидя гнев, кобылка молодая
Спешит к нему, всю ярость в нем смиряя.
Его взнуздать идет Адонис злой…
Но вдруг лошадка дикая в испуге,
Как от погони, прочь летит стрелой,
А конь, забыв Адониса, — к подруге,
И мчатся вдаль, а рядом с двух сторон
Несется стая вспугнутых ворон.
Уселся в ярости Адонис, мрачный,
Кляня проделки буйного коня…
Миг выпал для любви теперь удачный:
Вновь обольщать, мольбой его маня.
Нет горя, что сильнее сердце гложет,
Когда и речь любви помочь не может.
Печь замкнутая яростней горит,
Река в плотине яростней вскипает…
О скрытом горе так молва твердит:
Потоки слез огонь любви смиряют.
Но раз у сердца адвокат немой,
Тогда истец процесс погубит свой.
Ее вблизи он видит и пылает:
Под пеплом угли вихрь вздувает вновь.
На лоб он в гневе шапку надвигает,
Уставясь в землю, мрачно хмуря бровь,
Как будто замечать ее не смея…
Но искоса-то он следит за нею.
И любопытно видеть, как она
К мальчишке своенравному крадется,
Как на лице в смятенье белизна
Румянца алым светом вдруг зальется…
То бледен облик щек ее, а вот,
Как молния с небес, он вдруг сверкнет.
И вот она, склоняясь, поникает
Любовницей смиренной перед ним…
Одной рукою шапку поправляет
И льнет к щекам движением хмельным,
Нежнейший след на коже не изгладя,
Как легкий след в недавнем снегопаде.
Меж ними дело кончится войной!
Ее глаза к нему бегут с прошеньем,
Но он не тронут горестной мольбой:
Все жалобы встречает он с презреньем.
То, что неясно в пьесе до сих пор,
Расскажут слезы, как античный хор.
Она дарит его пожатьем нежным…
Как лилия, зарытая в снега,
Иль мрамор в алебастре белоснежном,
Так белый друг взял белого врага.
И бой двух рук — огня со льдом искристым —
Двум голубкам подобен серебристым.
Глашатай мысли речь ведет опять:
"Венец творенья в этом мире бренном,
О, если бы мужчиною мне стать,
То, слив сердца в желанье дерзновенном,
Тебя я кинулась бы исцелить,
И даже с риском жизнью заплатить".
Он говорит: "Оставь в покое руки!"
"Отдай мне сердце! — был ее ответ. —
Отдай его, в нем лишь металла звуки,
А нежных вздохов в нем давно уж нет.
Теперь меня смутит любовь едва ли,
Ты виноват, что сердце тверже стали".
А он: "Стыдись! Уйди иль дай уйти!
Мой день погублен, конь удрал куда-то,
Из-за тебя его мне не найти,
Оставь меня и уходи одна ты.
Лишь вот о чем сейчас веду я речь:
Как от кобылы жеребца отвлечь".
Она в ответ: "Твой жеребец, палимый
Желаньем ярым, верный путь избрал…
Туши пожар любви неодолимый,
Чтоб уголь сердце не воспламенял.
Пределы морю есть, но нет — для страсти!
Так диво ли, что конь у ней во власти?
Смирившись перед кожаной уздой,
У дерева томился он покорно…
Но, милую почуяв, конь лихой,
Ремень непрочный свой рванув проворно,
Мгновенно ухитрился прочь стянуть,
Освободив и голову и грудь.
Кто, видя милую нагой в постели,
Блеснувшую меж простынь белизной,
Допустит, чтоб в нем чувства онемели
Там, где глаза пресыщены едой?
Кто не дерзнет и хилою рукою
Вздуть пламя в печке зимнею порою?
Позволь коня мне, мальчик мой, простить!
Вот у кого бы надо поучиться
Бездумно наслаждения ловить,
Он нам теперь в наставники годится!
Учись любить, не труден ведь урок,
Усвоенный, тебе пойдет он впрок".
Он говорит: "Любви ловить не буду,
Она не вепрь, чтоб гнаться мне за ней…
Мой долг велик, но брать не стану ссуду,
Держаться дальше от любви — верней!
Я слышал, что она лишь дух бесплотный,
И смех, и слезы — все в ней мимолетно.
Кто в платье неготовом выйти б мог?
Кто нерасцветший лепесток срывает?
Лишь тронь неосторожно — и росток,
Едва взошедший, быстро увядает.
И если жеребенок запряжен,
То быстро в клячу превратится он.
Ты же мне руку вывихнешь… Не надо!
Расстанемся — не время для бесед…
Сними же с сердца моего осаду
И знай: надежды на победу нет!
Брось клятвы, лесть, притворные печали,
Там не пробьешь, где сердце тверже стали".
Она в ответ: "Ты смеешь возражать?
О, лучше б ты был нем иль я глухая…
Сирены голос губит нас опять,
Терзалась я, теперь изнемогаю.
Нестройных звуков полный, твой хорал
Для сердца жгучей раной прозвучал.
Будь я слепой, то уши бы пленялись
Невидимой и скрытой красотой, —
Будь я глухой, все атомы бы рвались
К тебе, к тебе, к слиянию с тобой…
Без глаз, ушей, без слуха и без зренья,
Я радость бы нашла в прикосновенье.
А если бы я даже не могла
Ни видеть, ни внимать, ни трогать нежно,
То я бы в обонянии нашла
Возможность волю дать любви безбрежной…
Твой облик излучает аромат,
В нем как бы вновь огни любви горят,
Но вкусу пир ты дал бы бесконечный,
Ты, четырех главнейших чувств исток!
Они тогда бы наслаждались вечно,
Поставив Подозренье на порог,
Чтоб Ревности угрюмой появленье
Не портило бы пир и наслажденье".
Открылся вновь рубиновый портал,
Чтоб нежно речь струилась, а не с гневом,
Но пурпур зорь извечно предвещал
Крушенье — моряку, грозу — посевам,
Скорбь — пастухам, беду — для малых птиц,
Для стада — вихрь и отблески зарниц.
Зловещий этот знак ее печалит:
Так ветер вдруг замрет перед грозой,
Так волк, рычать готовый, зубы скалит,
Так брызнет сок из ягоды тугой, —
Как из ружья полет смертельной пули,
Слова непрозвучавшие резнули.
Ее сражает сразу грозный взгляд,
Он и убьет любовь и воскрешает:
Улыбке каждый после гнева рад,
И нищего любовь обогащает.
А глупый мальчуган ей щеки трет,
Вот-вот опять румянец в них мелькнет,
И он уже забыл все то, что было,
Забыл, что собирался укорять…
Любовь уловкой горе отдалила:
Как ум хитер — в беде ее спасать!
Она в траве недвижно замирает —
Пусть он ей жизнь дыханьем возвращает!
Он жмет ей нос, и ловит сердца звук,
Сгибает пальцы, видя: плохо дело!
На губы дышит ей… Как нежный друг,
Исправить вред готов, и вдруг он смело
Ее целует! Ей теперь не встать,
Она согласна вечно так лежать.
Ночь грустную теперь заря сменяет,
Два голубых окна открыты в день…
Так солнце утром землю оживляет,
Приветным взором разгоняя тень,
Деля сиянье славы с небесами, —
Так и лицо озарено глазами.
Лицо его, как пламя, жгут лучи,
Как будто там сияющими стали.
Не будь нахмурен он, тогда в ночи
Четыре факела бы заблистали,
А взор ее хрустальною слезой
Мерцает, как луна в волне ночной.
Она твердит: "В огне иль в океане
Я гибну, в небесах иль на земле?
Что мне отныне — жизнь иль смерть желанней?
Который час? Рассвет иль ночь во мгле?
Была жива — и жизнь, как смерть, томила,
Теперь мертва — и смерть мне стала милой.
Убил уж раз меня! Убей же вновь!
Ведь злое сердце взор твой научило
С презреньем оттолкнуть мою любовь
И сердце бедное мое убило.
В мои глаза вошла бы темнота,
Когда б твои не сжалились уста.
Пусть поцелуй целебный долго длится!
Пусть пурпур губ не блекнет никогда!
Пусть свежесть в них навеки сохранится,
Чтоб гибель им не принесли года!
Пусть скажет звездочет, нам смерть вешая:
Твоим дыханьем сдута язва злая.
О, чистых губ мне наложи печать!
Какую сделку заключить должна я?
Себя теперь готова я продать,
А ты внесешь мне плату, покупая.
И чтоб покупку увенчать верней,
Печатью мне уста замкни скорей.
Пусть щедрым ливнем льются поцелуи,
Плати по одному, не торопясь.
Ведь десять сотен только и прошу я,
Они мелькнут, быстрее слов промчась.
Смотри, за неуплату долг удвою,
И двадцать сотен для тебя — пустое!"
"Царица, — он промолвил, — объясни
Незрелостью все ухищренья эти.
Я юн, меня к познанью не мани, —
Рыбак мальков швыряет прочь из сети.
Созрев, сорвется слива; но она
Кисла на вкус, покуда зелена.
Взгляни: целитель мира, утомленный,
На западе кончает путь дневной.
Кричит сова, предвестник ночи сонной,
В загоне — овцы, в гнездах — пташек рой.
Слой черных туч, окутав небо тьмою,
Зовет и нас к разлуке и покою.
Давай друг другу мы шепнем: "Прощай!"
Скажи — и ты дождешься поцелуя!"
Она, сказав, как будто входит в рай
И платы ждет, мечтая и ликуя…
И обняла любимого потом,
Прильнув к лицу пылающим лицом,
Пока он, ослабев, не отрывает
Небесной влагой напоенный рот…
Он сладостью ей губы обжигает,
Но жажда их все яростнее жжет.
Они, друзья и недруги желанья,
Вновь падают на землю без дыханья.
Теперь желанье, жертвой завладев,
Ее, как хищник, жадно пожирает…
Ее уста — как воин, впавший в гнев,
Его уста — как пленник, замирают.
Она их пьет как коршун, груб и дик,
Пока не осушает весь родник.
Она в слепом неистовстве бушует,
Вдруг ощутив всю сладость грабежа, —
В ней страсть с безумством ярости ликует,
Лицо горит, вся кровь кипит… Дрожа,
Она в забвенье отшвырнула разум,
И стыд, и честь — все умолкает разом.
В объятьях цепких, слаб и распален,
Как ставшая ручною в клетке птица,
Иль как олень, что бегом утомлен,
Иль как дитя, что ласке покорится,
Он ей сдается, не вступая в бой,
А ей желанен счастья миг любой!
Малейшему давленью уступает
Застывший воск, когда огнем нагрет,
Отвага никаких преград не знает,
Особенно в любви границ ей нет…
И страсть не отступает боязливо,
Чем цель трудней, тем яростней порывы.
Ей не пришлось бы нектар губ впивать,
Смутись она его суровым взором…
С шипами вместе розу надо рвать,
Влюбленный должен быть глухим к укорам.
Будь красота под тысячей замков,
Любовь пробьется к ней в конце концов.
Ей жалость отпустить его внушает,
Несчастный молит дать ему уйти…
И вот она его освобождает
И даже говорит ему: "Прости!" —
Хоть луком Купидона и клянется,
Что он над сердцем властен остается.
"Мой милый, эту ночь я проведу
В бессонной, — говорит она, — печали…
Скажи мне, где и как тебя найду?
На завтра встречу мы не назначали?"
А он ей: завтра встреча не нужна,
С друзьями он идет на кабана.
"Кабан!" — Вдруг бледность щеки покрывает,
Как будто бы над розой полотно…
Хоть ею тайный страх овладевает,
Она к нему прильнула все равно.
Упали оба — тут и он забылся
И прямо на живот к ней повалился.
Для жаркой схватки на коне боец,
Теперь любви арена перед нею…
Когда же в бой он вступит наконец?
Но тают жалкие мечты, тускнея;
Таких и сам Тантал не ведал бед:
В Элизиум вошла — а счастья нет!
Вот птицы видят гроздья на картине,
Их так пленяет этот виноград,
Что ягоды клюют и на холстине…
Так и ее желания томят.
Желаний пыл невспыхнувший царица
Зажечь в нем поцелуями стремится.
Напрасен труд, царица красоты,
Испробовано все, что достижимо…
Иных наград заслуживаешь ты:
Сама Любовь… в любви… и нелюбима!
"Стыдись, — он говорит, — ты жмешь, пусти,
И эти приставанья прекрати!"
"Когда б о вепре ты не заикнулся,
Давно бы ты ушел, — в ответ она, —
А вдруг метнул копье да промахнулся?
Ну где же осторожность тут видна?
Опасен хищник острыми клыками,
Так мясники орудуют ножами.
Щетину игл — угрозу для врагов —
Он тащит на спине горбатой, взрытой,
Он мордой рыть могилы всем готов,
Глаза, как светляки, блестят сердито…
Он в ярости сметает всє с пути,
И трудно от клыков его уйти.
Его бока защищены щетиной,
И надо их сперва пронзить копьем…
А к толстой шее путь для лезвий длинный,
Он в бешенстве сразится и со львом.
Пред ним кустарник в страхе сторонится,
Когда стремглав он через дебри мчится.
Тебя ему сгубить совсем не жаль,
И облик твой, моей любви блаженство,
И нежность рук, и губ, и глаз хрусталь —
Все изумительное совершенство!
Но, одолев тебя (вот ужас в чем!),
Как луг, всю прелесть взроет он потом.
Пусть в мерзостной берлоге он таится…
Что делать красоте с врагом лихим?
К опасностям не должно нам стремиться,
Здесь друга нам совет необходим.
Во мне — чуть уши это услыхали —
От страха все поджилки задрожали.
Ты видел, как в глазах зажегся страх?
Заметил, как лицо мое бледнеет?
Ты лег на грудь мне, ты в моих руках,
И я без чувств, и все во мне немеет…
Но сердца беспокойный, шаткий бой
Как гул землетрясенья под тобой.
Там, где царит Любовь, там Ревность злая
Стоит, как верный часовой, пред ней,
Тревогу бьет, мятеж подозревая,
И в мирный час зовет: "Убей! Убей!"
Она любовь от страсти отвлекает,
Так ветер и вода огонь сбивают.
Червяк, любви грызущий вешний цвет,
Лазутчик этот всюду тайно вьется,
Мешая правду счастья с ложью бед…
Он Ревностью уж издавна зовется.
Стучит он в сердце, в ухо шепчет мне.
Что смерть любимого страшна вдвойне.
Он страшный облик вепря представляет
Разительно испуганным глазам,
И, весь в крови, твой образ возникает,
Поверженный, как жертва злым клыкам.
К цветов подножью кровь твоя струится,
И грустно ряд стеблей к земле ложится.
А что со мною станется тогда,
Раз и теперь дрожу я от волненья?
Одна лишь мысль для сердца уж беда,
А страх ему внушает дар прозренья.
Знай, что тебе погибель суждена,
Когда ты завтра встретишь кабана.
Уж если так увлекся ты охотой,
За робким быстрым зайцем устремись,
Иль за лисою в чащи и болота,
Иль за пугливой ланью ты помчись!
Но там трави одних лишь кротких тварей
Со сворой псов в охотничьем угаре.
Заметь, когда, спасаясь от беды,
Мелькают ушки зайчика косого,
То он, запутывая все следы,
Быстрее ветра мчится прочь, и снова
В любые норки он юркнуть готов,
Как в лабиринт, чтоб обмануть врагов.
Порой в толпу овец он ускользает,
Их запахом обманывая псов,
Порою в норку кролика влетает,
Чтоб смолкнул гул собачьих голосов,
Иль спрячется в стадах оленьих ловко:
Для всяких бедствий есть своя уловка.
Собак разгоряченных он смутит
Там, где с другими запах свой смешает, —
Но вскоре вновь его обман открыт,
Их звонкий лай на миг лишь замолкает.
Завоют псы, а эхо им в ответ:
Как бы и в небе ловят зверя след.
Стоит зайчонок бедный у пригорка
На задних лапках, обратившись в слух,
Он за врагами наблюдает зорко,
К заливчатому лаю он не глух.
В тоске больного он напоминает,
Что звону похоронному внимает.
Ты видишь, он, запутывая путь,
Зигзагами летит, в росе купаясь,
Царапая себе шипами грудь,
Любых теней и шорохов пугаясь.
Топтать смиренных ведь готов любой,
А кто поможет справиться с бедой?
Лежи спокойно и послушай дало…
Не рвись, ведь все равно тебе не встать!
Я от охоты отучу едва ли,
Хоть мне пришлось мораль тебе читать.
Легко найду я нужные сравненья,
Чтоб как-то дать страданьям объясненье.
Что я сказать хотела?" — "Все равно, —
Прервал он, — все давно об этом знают.
Уж ночь, темно…". — "Так что же, что темно?"
"Меня друзья давно уж ожидают,
И я, бредя во тьме, могу упасть".
В ответ она: "Во тьме лишь зорче страсть.
А упадешь, то знай: земля, наверно,
К тебе в любви пытается прильнуть…
Сокровища на всех влияют скверно,
Влекут и честных на преступный путь.
От губ твоих спешит Диана скрыться,
Чтоб поцелуем ей не соблазниться.
Теперь причина темноты ясна:
Стыдясь, луна свои лучи застлала,
Пока природа не осуждена
За то, что красоту с небес украла
И воплотила в облике твоем,
Чтоб в ночь затмить луну и солнце — днем.
Луна Судьбу лукаво подкупает,
Прося труды природы истребить…
Судьба с уродством красоту сливает,
Чтоб в хаосе гармонию сгубить,
А красоту подвергнуть страшной власти
Тиранства, злополучья и несчастья.
Горячка, бред, чумы смертельный яд,
Безумие, шальные лихорадки,
Болезнь костей, когда в крови горят,
Как пламя, сумасшествия припадки,
Отчаянье, печаль, весь гнет земной —
Природе смертью мстят за облик твой.
А из недугов этих ведь любые
В мгновенной схватке прелесть сокрушат,
И молодости краски огневые,
Недавно так пленявшие наш взгляд, —
Все быстро блекнет, вянет, исчезает…
Так снег в горах под солнцем в полдень тает.
Ты девственность бесплодную отбрось
Весталок хмурых и монахинь нудных…
Им дай лишь власть — пожалуй бы пришлось
Увидеть век людей бездетных, скудных.
Будь щедр! Чтоб факел в темноте не гас,
Ты масла не жалей хоть в этот раз.
Вот это тело — жадная могила,
Свое потомство в ней хоронишь ты…
Ему родиться время предрешило,
Но ты не спас его от темноты.
Весь мир взглянул бы на тебя с презреньем,
Узнав, что ты запятнан преступленьем!
Себя ты губишь скупостью своей…
Так и в гражданских войнах не бывает!
Самоубийцы даже ты гнусней,
Отца, который сына убивает.
Зарытый клад ржавеет и гниет,
А в обороте — золото растет!"
"Ты скучной теме предаешься страстно
В который раз, — Адонис ей сказал, —
Но борешься с теченьем ты напрасно,
И я тебя напрасно целовал.
Клянусь я ночью, нянькой наслажденья,
Мне речь твоя внушает омерзенье!
Хоть двадцать тысяч языков имей,
И каждый будь из них еще страстнее,
И будь он пения сирен нежней —
Я все равно понять их не сумею.
Бронею сердце вооружено,
Не будет слушать песен лжи оно,
Чтоб обольщающий напев не вкрался
В нетронутый тайник груди моей
И там смутить бы сердце не старался,
Не дав потом спокойно спать ночей…
Нет, госпожа, его терзать не стоит,
Пускай никто его не беспокоит.
На лесть твою легко рукой махнуть,
Ведь гладок путь, ведущий к обольщенью..
Не от любви хочу я увильнуть,
Я к похоти питаю отвращенье.
А ты, чтоб в плен потомством заманить,
Свой разум в сводню хочешь превратить.
Любовь давно уже за облаками,
Владеет похоть потная землей
Под маскою любви — и перед нами
Вся прелесть блекнет, вянет, как зимой.
Тиран ее пятнает и терзает:
Так червь листы расцветшие глодает.
Любовь, как солнце после гроз, целит,
А похоть — ураган за ясным светом,
Любовь весной безудержно царит,
А похоти зима дохнет и летом…
Любовь скромна, а похоть все сожрет,
Любовь правдива, похоть нагло лжет.
Я больше бы сказал, да не дерзаю,
Предмет уж стар, оратор же незрел…
Итак, тебя с досадой покидаю,
Стыд на лице, и в сердце гнев вскипел,
А уши, что речам хмельным внимали,
Горят румянцем — так их оскорбляли".
От нежных рук, державших на груди,
Уходит он, из сладостных объятий
Он вырвался. Венера впереди
Лишь горе чует, плача об утрате.
Как в небе метеор, мелькнув, погас,
Так он скрывается во мраке с глаз.
Она за ним следит… Так мы порою
Глядим на отплывающих друзей,
Когда корабль уже закрыт волною,
До туч взлетевшей в ярости своей,
И тьма, как необъятная могила,
Уже любимый облик поглотила.
Смущенная, как тот, кто вдруг в поток
Алмаз бесценный уронил случайно,
Как путник, чей погаснул огонек,
Бредет в ночном лесу тропинкой тайной, —
Так и она лежала в темноте,
Утратив путь к сияющей мечте.
Бьет в грудь она себя, и сердце стонет,
А ближние пещеры, как бы злясь,
Назад к богине эти стоны гонят,
Как будто бы усилить боль стремясь.
Она раз двадцать всхлипнет: "Горе, горе!"
И плачут двадцать эхо, стонам вторя.
О том, как дерзких юношей в рабов
Любовь в безумстве мудром обращает,
Как губит в детство впавших стариков,
Она уныло песню начинает…
Заканчивает скорбный гимн печаль,
А эхо все уносит гулко вдаль.
Всю ночь звучат мотивы скучной песни,
Часы влюбленных молнией летят…
Что им всего на свете интересней,
То, думают, любой услышать рад.
Но часто их подробные рассказы
Охоту слушать отбивают сразу.
Но с кем ей провести придется ночь?
Ведь звуки эхо льстить бы ей сумели…
Их слушать, как буфетчиков, невмочь
В дыму таверны, за бутылкой эля.
Им скажешь: "Да!" — они ответят: "Да!"
И "Нет!" на "Нет!" услышишь ты всегда.
Вот жаворонок нежный! В час рассвета
Он ввысь из влажных зарослей вспорхнет,
И встанет утро. Прославляя лето,
Величьем дышит солнечный восход
И мир таким сияньем озаряет,
Что холм и кедры золотом пылают.
Венера солнцу тихо шлет привет:
"О ясный бог и покровитель света!
Свет факелов и звезд далекий свет,
Весь этот блеск — твое созданье это…
Но сын, рожденный матерью земной,
Затмить сумеет свет небесный твой".
И к роще миртовой Венера мчится,
Волнуясь, что уж полдень недалек,
А весть о милом в тишине таится…
Где лай собак и где гремящий рог?
Но вдруг возникли отклики в долине,
И вновь на звуки понеслась богиня.
Она бежит, а на пути кусты,
Ловя за шею и лицо целуя,
У бедер заплетаются в жгуты…
Она летит, объятья их минуя.
Так лань, томясь от груза молока.
Спешит кормить ягненка-сосунка.
Но, услыхав, что псы визжат в тревоге,
Она дрожит, как тот, кто вдруг змею
Зловещей лентой встретив на дороге,
Замрет и в страхе жмется на краю…
Так вой собак, звучащий за спиною,
Всю душу наполняет ей тоскою.
И ясно ей, что здесь идет со львом,
С медведем или вепрем бой кровавый…
И там, где в кучу сбились псы кругом,
Ей слышен визг и вой орды легавой.
Уж очень страшен псам свирепый враг:
Кому начать — им не решить никак.
Ей в уши проникает визг унылый,
Оттуда к сердцу подступает он,
И в страхе кровь от сердца рвется с силой
И каждый атом в ней оледенен…
Так, офицера потеряв, солдаты
Бегут позорно, ужасом объяты.
Потрясена картиною такой,
Она застыла в трепетном волненье,
Пока себе не говорит самой,
Что это — лишь пустое наважденье,
Что успокоиться она должна,
И вдруг под елью видит кабана.
Все в алых сгустках, в белой пене рыло,
Как будто с молоком смешалась кровь…
Ей снова страх оледеняет жилы,
И мчится прочь она в безумстве вновь.
Вперед, назад — блуждает и плутает,
И кабана в убийстве обвиняет.