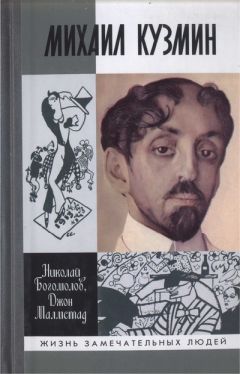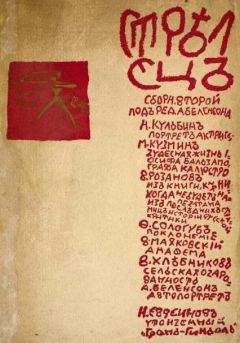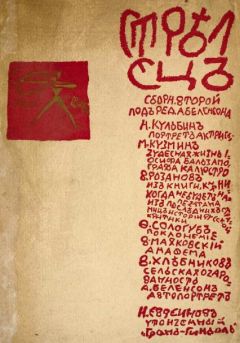Михаил Кузмин - Стихотворения
«Не правда ли, на маяке мы…»*
Не правда ли, на маяке мы —
В приюте чаек и стрижей,
Откуда жизнь и море — схемы
Нам непонятных чертежей?
Окошко узкое так мало,
А горизонт — далек, широк,
Но сердце сердце прижимало,
Шептало: «Не настал ли срок?»
Нам вестники — стрижи да чайки,
А паруса вдали — не нам;
Любовь, какой другой хозяйке,
Как не тебе, ключи отдам?
Входи, хозяйствуй, полновластвуй:
Незримою ты здесь была,
Теперь пришла — живи и здравствуй
Над лоном хладного стекла;
Отсюда жизнь и море — схемы
Нам непонятных чертежей,
И вот втроем на маяке мы,
В приюте чаек и стрижей.
«Ты сидишь у стола и пишешь…»*
Ты сидишь у стола и пишешь.
Ты слышишь?
За стеной играют гаммы,
А в верхнем стекле от рамы
Зеленеет звезда…
Навсегда.
Так остро и сладостно мило
Томила
Теплота, а снаружи морозы…
Что значат ведь жалкие слезы?
Только вода.
Навсегда.
Смешно и подумать про холод,
Молод
Всякий, кто знал тебя близко.
Опустивши голову низко,
Прошепчешь мне «да».
Навсегда.
«Сегодня что: среда, суббота?…»*
Сегодня что: среда, суббота?
Скоромный нынче день иль пост?
Куда девалася забота,
Что всякий день и чист и прост.
Как стерлись, кроме Вас, все лица,
Как ровно дни бегут вперед!
А, понял я: «Сплошной седмицы»
В любви моей настал черед.
«Я знаю, я буду убит…»*
Я знаю, я буду убит
Весною, на талом снеге…
Как путник усталый спит,
Согревшись в теплом ночлеге,
Так буду лежать, лежать,
Пригвожденным к тебе, о мать.
Я сам это знаю, сам,
Не мне гадала гадалка,
Но чьим-то милым устам
Моих будет жалко…
И буду лежать, лежать,
Пригвожденным к тебе, о мать.
И будет мне все равно,
Наклонится ль кто надо мною,
Но в небес голубое дно
Взгляну я с улыбкой земною.
И буду лежать, лежать,
Пригвожденным к тебе, о мать.
«Твой голос издали мне пел…»
Твой голос издали мне пел:
«Вернись домой!
Пускай нас встретят сотни стрел,
Ты — мой, ты — мой!»
И сладким голосом влеком,
Я вопрошал:
«Но я не знаю, где мой дом
Средь этих скал?»
И тихий шелестит ответ:
«Везде, где я;
Где нет меня, ни счастья нет,
Ни бытия.
Беги хоть на далекий Ганг,
Не скрыться там, —
Вернешься вновь, как бумеранг,
К моим ногам».
«Теперь я вижу: крепким поводом…»
Теперь я вижу: крепким поводом
Привязан к мысли я одной,
И перед всеми, всеми слово дам,
Что ты мне ближе, чем родной.
Блаженство ль, долгое ль изгнание
Иль смерть вдвоем нам суждена,
Искоренить нельзя сознания,
Что эту чашу пью до дна.
Что призрак зол, глухая Персия
И допотопный Арарат?
Раз целовал глаза и перси я —
В последний час я детски рад.
«Над входом ангелы со свитками…»*
Над входом ангелы со свитками
И надпись: «Плоть Христову ешь»,
А телеграф прямыми нитками
Разносит тысячи депеш.
Забвенье тихое, беззлобное
Сквозь трепет ярких фонарей,
Но мне не страшно место лобное:
Любовь, согрей меня, согрей!
Опять — маяк и одиночество
В шумливом зале «Метрополь».
Забыто имя здесь и отчество,
Лишь сердца не забыта боль.
«Как странно: снег кругом лежит…»
Как странно: снег кругом лежит,
А ведь живем мы в центре города,
В поддевке молодец бежит,
Затылки в скобку, всюду бороды.
Jeunes homm'ы[78] чисты так и бриты,
Как бельведерский Аполлон,
А в вестибюле ходят бритты,
Смотря на выставку икон.
Достанем все, чего лишь надо нам,
И жизнь кипуча и мертва,
Но вдруг пахнет знакомым ладаном…
Родная, милая Москва!
«Вы мыслите разъединить…»
Вы мыслите разъединить
Тех, что судьбой навеки слиты,
И нежную расторгнуть нить,
Которой души наши свиты?
Но что вы знаете о ней:
Святой, смиренной, сокровенной,
Невидной в торжестве огней,
Но яркой в темноте священной?
Чужда томительных оков,
Она дает и жизнь, и волю,
И блеск очей, и стройность строф,
И зелень радостному полю.
Глуха к бессильной клевете,
Она хранит одну награду,
И кто любви не знали, те
Не переступят чрез ограду.
«Посредине зверинца — ограда…»*
Посредине зверинца — ограда,
А за нею розовый сад.
Там тишина и прохлада,
И нет ни силков, ни засад.
Там дышится сладко и вольно,
И читают любовный псалтырь,
А кругом широко и бездольно
Распростерся дикий пустырь.
Когда ж приоткроют двери,
Слышен лай и яростный вой,
Но за стены не ступят звери:
Их крылатый хранит часовой.
И все так же тихо и мирно
Голубой лепечет ручей,
И медленно каплет смирна
Из цветочных очей.
И издали вой, как «осанна»,
Говорит: «Люби, живи!»
Но звериная жизнь — обманна
Запечатанной там любви.
Декабрь 1911 — январь 1912
VII. Трое*
«Нас было трое: я и они…»*
Нас было трое: я и они,
Утром цветы в поле сбирали,
Чужды печали, шли наши дни,
Горькой беды мы не гадали.
Летние дали тучей грозят,
Пестрый наряд ветер развеет,
Цветик слабеет, бурей измят,
Тщетно твой взгляд пламенем рдеет.
Кто же посмеет нас разлучить,
Разом разбить счастье тройное?
Все же нас трое: крепкая нить
Нас единить будет для боя!
«Ты именем монашеским овеян…»*
Ты именем монашеским овеян,
Недаром гордым вырос, прям и дик,
Но кем дух нежности в тебе посеян,
Струею щедрой брызжущий родник?
Ты в горести главою не поник:
Глаза блеснут сквозь темные ресницы…
Опять погаснут… и на краткий миг
Мне грозный ангел в милом лике мнится.
«Как странно в голосе твоем мой слышен голос…»*
Как странно в голосе твоем мой слышен голос,
Моею нежностью твои глаза горят,
И мой чернеется, густой когда-то, волос
В кудрях томительных, что делит скромный ряд.
Молчим условленно о том, что мнится раем,
Любовью связаны и дружбой к одному,
Глядим, как в зеркало, и в нем друг друга знаем,
И что-то сбудется, как быть должно тому.
«Не правда ль, мальчик, то был сон…»*
Не правда ль, мальчик, то был сон,
Когда вскричал ты со слезами:
«Твой друг убит! вот нож, вот он!» —
И зорко поводил глазами,
А я сидел у ног прикован,
Ночною речью околдован?
Не правда ль, мальчик, то был сон,
Когда в горячке пламенея,
Ты клял неведомый закон
И клял небывшего злодея?
То ночи полное светило
Тебя мечтами посетило.
Не правда ль, мальчик, то был сон?
Мой друг живет, и ты проснешься,
И ранним утром освежен,
Забудешь ночь и улыбнешься.
Зачем же днем повсюду с нами —
Твой страх, рожденный злыми снами?
«Уезжал я средь мрака…»*