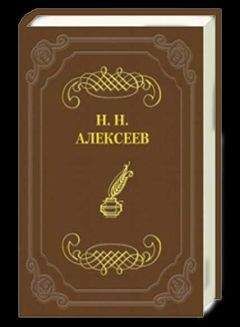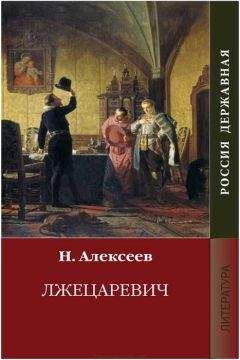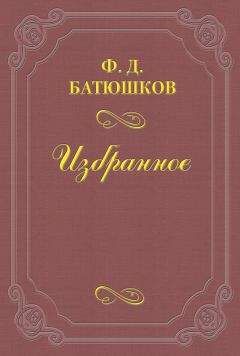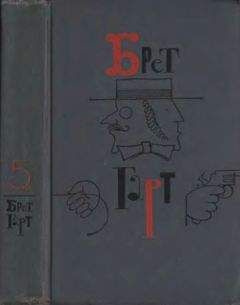Сергей Рафалович - Пленная Воля
«Как муравейник мир кишит…»
Как муравейник мир кишит,
Как сыч в дупле от жизни прячусь,
И в ночь гляжу, и от души
Не засмеюсь и не заплачу.
И знаю, люди говорят:
Он равнодушен и разумен,
И в меру сыт, и в меру свят,
Полукупец, полуигумен.
И люди правы. С детских лет
Для их труда, для их забавы
Во мне ни слез, ни смех нет,
И если нет, то люди правы.
Но ты, чья бурная весна
Насыщенней любого лета,
Чья плоть, как сумерки, темна,
А взгляд, как нежный луч рассвета,
Ведь ты не скажешь никому,
Что безрассуден друг далекий,
Что жадно он глядит во тьму,
Где тает призрак светлоокий,
Что грех и подвиг — лишь слова
Без оправданья и значенья,
Что одиноко лечь в кровать,
Быть может, злейшее мученье.
А если скажешь, промолчи
О том, что это наша доля,
Что мы одни, как сыч в ночи,
Как ветер средь пустого поля.
«Святой Никола ищущим поможет…»
Святой Никола ищущим поможет,
Пантелеймон болящих исцелит.
Но я молюсь все истовей и строже,
Чтоб замолить блаженный грех любви.
Когда душа проклятой муке рада
И плоть моя как лук напряжена,
Мне помощи угодников не надо,
Чтоб злую чашу осушить до дна.
И вот стою, обретший, утоленный,
Безрадостно свободный от оков,
И в тишине души опустошенной
Немое бремя двух земных грехов.
Еще звенят распавшиеся звенья,
Но мертвый звон сердца не оживит.
Не искуплю я светлый грех забвенья,
Не замолю я темный грех любви.
Из сборника «ТЕРПКИЕ БУДНИ» (Париж, 1926)
Мелите
I
«Сверкало солнце и жужжали пчелы…»
Сверкало солнце и жужжали пчелы,
Горячий ветер в листьях шелестел,
Гудел с ним на море прибой веселый
И скалы, точно груды обнаженных тел,
Недвижных и трепещущих блаженно,
Одною жизнью жили со вселенной.
Но день бледнел, бледнел и гас,
Пока не наступил предсумеречный час
На склоне дня, на зыбкой грани мрака,
Тот час, который мы зовем
Не ночью и не днем,
А часом между волком и собакой.
Стихал прибой, тускнел закат,
Улегся ветер, смолкли пчелы;
Густой и пряный аромат
Накрыл плащом незримым долы.
Все четким стало и чужим,
Прозрачно-призрачным и жутким,
И притаился — недвижим —
Весь мир земной, и сердце с ним,
Как странник медленный и чуткий.
Немая, светлая тоска
Неслышно в душу проникала;
И вдруг, острей, чем сталь клинка,
Мелькнуло острой мысли жало
И боль глубоко в плоть впилась.
О старость, старость, не тебя ли
Впервые слух и взор объяли
В тот напряженно-тихий час?
«Не верь свидетельствам простым…»
Не верь свидетельствам простым
Ни рук твоих, ни глаз, ни слуха…
Над крышей вьется легкий дым,
Жужжит за плотным ставнем муха;
Потертый, кожаный диван
Просторней и свежей постели,
И пыльный томик — Мопассан —
Лежит нетронут две недели;
Усадьба спит полденным сном,
И лишь порой, неугомонный,
Мальчишка тонким голоском
С реки пронзает воздух сонный.
Все это было много раз
И так привычно, так знакомо;
Но стали сказкою для нас
Заглохший сад со старым домом.
Не верь ни слуху, ни глазам:
Улики нет былому мигу;
Мы жизнь читаем по складам,
Как дети маленькие книгу;
И лишь иным бывает знак
И явен темный лик мгновений,
Как обнажают наш костяк
Лучи высоких напряжений.
«Должно быть, в карты или в кости…»
Должно быть, в карты или в кости
Или побившись о заклад,
Я проиграл лихому гостю
Все то, чем стал бы я богат.
Когда и как случилось это:
В бреду ли или с пьяных глаз?..
Но час расплаты — черный час —
Наверно, был отмечен где-то.
Все чаще в жуткой мгле ночей
И днем средь гула городского
Мелькает взгляд — не знаю, чей, —
Звучит неявственное слово.
И что печали прежних лет,
Тоска разлук и скорбь утраты,
Когда на сердце горя нет,
И все ж оно тисками сжато?
Давно не помнит ни о чем
И только бьется торопливо,
Как будто за моим плечом
Расчета ждет игрок счастливый.
«Как жемчуга поддельного мерцанье…»
Как жемчуга поддельного мерцанье,
Утеха обнищавших богачей,
Остались мне одни воспоминанья
Моих былых и подлинных страстей.
И где они, доверчивые жены,
Мгновенные попутчицы мои,
Восторг томительный ночей бессонных
И щедрая безудержность любви?
Они ушли, к другим или в могилу,
Ушли они, как молодость прошла,
И только память с верностью постылой
Еще глядит в пустые зеркала.
Но я живу и памяти не верю,
Гостей приблудных в гости я не жду,
И пусть они скулят за темной дверью, —
Не выйду к ним и в дом не поведу.
Мне жизнь была причудливой затеей,
И в мудрости я не был уличен;
Но твердо знаю, что всего глупее
Я буду в день моих же похорон.
«Есть краткий миг, когда сильнее смерти…»
Есть краткий миг, когда сильнее смерти
Пышнее жизни нищая любовь,
И кажется, что жернова часов
Судьба неугомонная не вертит.
Но миг пройдет, как все проходят миги,
Очнемся и увидим, что кругом
Ничто не изменилось: те же книги
Вдоль стен и тот же грохот за окном;
Привычный голод в утомленном теле,
И холодно и стыдно быть нагим;
И каждый шаг, когда сойдем с постели,
Ведет туда, где рок неумолим.
Гудит толпа, снуют автомобили,
Как проститутка город разодет;
И денег хмуро ищем на обед,
Забыв о том, как царственно любили.
«У модных лавок, где бока…»
У модных лавок, где бока
Мне отдавили парижане,
Я в стеклах вижу двойника,
Каким он был бы на экране;
И бледность строгую свою,
И рот с усмешкою короткой,
И взгляд упорный узнаю,
И торопливую походку.
Когда под низким потолком
Заснув, себя я вижу в небе,
Мне так же облик мой знаком
И соблазнительно враждебен;
И возвратясь издалека,
С усильем тяжким отстраняю
Такого точно двойника,
Каких в витрине оставляю.
Оставил там, где пустота,
И не оставил — уничтожил;
И снова — улиц пестрота,
Толпа, и я, ни с кем не схожий.
Но тщетно разум шепчет мне
Про сонный бред и отраженье:
В его словах, как при луне,
Одно сплошное наважденье.
И надо где-нибудь присесть
И, выпив кофе подогретый,
В газете биржу перечесть, —
Чтоб вновь поверить жизни этой.
«Рояль, бандура, барабан, и скрипка…»
Рояль, бандура, барабан, и скрипка,
И резвая трещотка с бубенцом.
Их пятеро, чернявых с кожей липкой,
И много нас внизу, полукольцом.
Мы слушаем, глядим, сейчас запляшем,
Запляшем так, как пятеро хотят;
Их бойкий лад хмельней, чем зелья наши,
И прямо в кровь струится этот яд.
Пять лет войны, семь лет, ни с чем не схожих,
Расплаты с прошлым, худшей, чем война, —
Не оттого ли бредом чернокожих
Европа, как дикарь, упоена?
И следуя за юношей безусым,
Прильнувшим к даме с задом битюга,
Должны мы трепыхаться, как зулусы,
Зажарившие пленного врага?
«Двенадцать раз, затем еще двенадцать…»