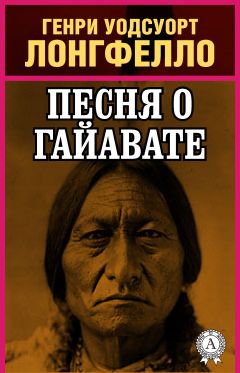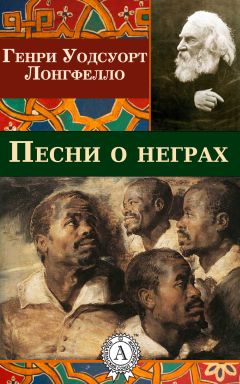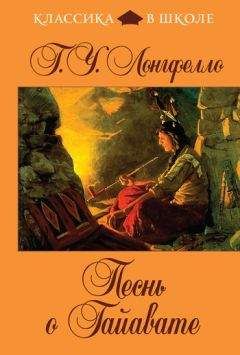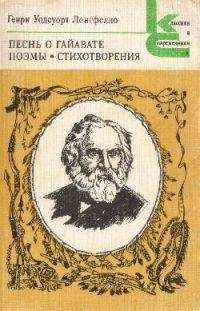Генри Лонгфелло - Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Уолт Уитмен. Стихотворения и поэмы. Эмили Дикинсон. Стихотворения.
ПЕСНЯ О СЕБЕ[107]
Перевод К. Чуковского.
1Я славлю себя и воспеваю себя,
И что я принимаю, то примете вы,
Ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам.
Я, праздный бродяга, зову мою душу,
Я слоняюсь без всякого дела и, лениво нагнувшись, разглядываю летнюю травинку.
Мой язык, каждый атом моей крови созданы из этой почвы, из этого воздуха;
Рожденный здесь от родителей, рожденных здесь от родителей, тоже рожденных здесь,
Я теперь, тридцати семи лет, в полном здоровье, начинаю эту песню
И надеюсь не кончить до смерти.
Догматы и школы пускай подождут,
Пусть отступят немного назад, они хороши там, где есть, мы не забудем и их,
Я принимаю природу такою, какова она есть, я позволяю ей во всякое время, всегда
Говорить невозбранно с первобытною силой.
Пахнут духами дома и квартиры, на полках так много духов,
Я и сам дышу их ароматом, я знаю его и люблю,
Этот раствор опьянил бы меня, но я не хочу опьяняться.
Воздух не духи, его не изготовили химики, он без запаха,
Я глотал бы его вечно, я влюблен в него,
Я пойду на лесистый берег, сброшу одежды и стану голым,
Я схожу с ума от желания, чтобы воздух прикасался ко мне.
Пар моего дыхания,
Эхо, всплески, жужжащие шепоты, любовный корень, шелковинка, стволы-раскоряки, обвитые лозой,
Мои вдохи и выдохи, биение сердца, прохождение крови и воздуха через мои легкие,
Запах свежей листвы и сухой листвы, запах морского берега и темных морских утесов, запах сена в амбаре,
Мой голос, извергающий слова, которые я бросаю навстречу ветрам,
Легкие поцелуи, объятия, касания рук,
Игра света и тени в деревьях, когда колышутся гибкие ветки,
Радость — оттого, что я один, или оттого, что я в уличной
сутолоке, или оттого, что я брожу по холмам и полям,
Ощущение здоровья, трели в полуденный час, та песня, что поется во мне, когда, встав поутру, я встречаю солнце.
Ты думал, что тысяча акров — это много? Ты думал, что земля — это много?
Ты так долго учился читать?
Ты с гордостью думал, что тебе удалось добраться до смысла поэм?
Побудь этот день и эту ночь со мною, и у тебя будет источник всех поэм,
Все блага земли и солнца станут твоими (миллионы солнц в запасе у нас),
Ты уже не будешь брать все явления мира из вторых или третьих рук,
Ты перестанешь смотреть глазами давно умерших или питаться книжными призраками,
И моими глазами ты не станешь смотреть, ты не возьмешь у меня ничего,
Ты выслушаешь и тех и других и профильтруешь все через себя.
Я слышал, о чем говорили говоруны, их толки о начале и конце,
Я же не говорю ни о начале, ни о конце.
Никогда еще не было таких зачатий, как теперь,
Ни такой юности, ни такой старости, как теперь,
Никогда не будет таких совершенств, как теперь,
Ни такого рая, ни такого ада, как теперь.
Еще, и еще, и еще,
Это вечное стремление вселенной рождать и рождать,
Вечно плодородное движение мира.
Из мрака выходят двое, они так несхожи, но равны: вечно материя, вечно рост, вечно пол,
Вечно ткань из различий и тождеств, вечно зарождение жизни.
Незачем вдаваться в подробности, и ученые и неучи чувствуют, что все это так.
Прочно, и твердо, и прямо, скованные мощными скрепами,
Крепкие, как кони, пылкие, могучие, гордые,
Тут мы стоим с этой тайной вдвоем.
Благостна и безмятежна моя душа, благостно и безмятежно все, что не моя душа.
У кого нет одного, у того нет другого, невидимое утверждается видимым,
Покуда оно тоже не станет невидимым и не получит утверждения в свой черед.
Гоняясь за лучшим, отделяя лучшее от худшего, век досаждает веку, —
Я же знаю, что все вещи в ладу и согласии.
Покуда люди спорят, я молчу, иду купаться и восхищаться собою.
Да здравствует каждый орган моего тела и каждый орган любого человека, сильного и чистого!
Нет ни одного вершка постыдного, низменного, ни одной доли вершка, ни одна доля вершка да не будет менее мила, чем другая.
Я доволен — я смотрю, пляшу, смеюсь, пою;
Когда любовница ласкает меня, и спит рядом со мною всю ночь, и уходит на рассвете украдкой,
И оставляет мне корзины, покрытые белою тканью, полные до краев, —
Разве я отвергну ее дар, разве я стану укорять мои глаза
За то, что, глянув на дорогу вослед моей милой,
Они сейчас же высчитывают до последнего цента точную цену одного и точную цену двоих?
Странники и вопрошатели окружают меня,
Люди, которых встречаю, влияние на меня моей юности, или двора, или города, в котором я живу, или народа,
Новейшие открытия, изобретения, общества, старые и новые писатели,
Мой обед, мое платье, мои близкие, взгляды, комплименты, обязанности,
Подлинное или воображаемое равнодушие ко мне мужчины или женщины, которых люблю,
Болезнь кого-нибудь из близких или моя болезнь, проступки, или потеря денег, или нехватка денег, или уныние, или восторг,
Битвы, ужасы братоубийственной войны, горячка недостоверных известий, спазмы событий
Все это приходит ко мне днем и ночью, и уходит от меня опять,
Но все это не Я.
Вдали от этой суеты и маеты стоит то, что есть Я,
Стоит, никогда не скучая, благодушное, участливое, праздное, целостное.
Стоит и смотрит вниз, стоит прямо или опирается согнутой в локте рукой на некую незримую опору,
Смотрит, наклонив голову набок, любопытствуя, что будет дальше.
Оно и участвует в игре, и не участвует, следит за нею и удивляется ей.
Я смотрю назад, на мои минувшие дни, когда я пререкался в тумане с разными лингвистами и спорщиками,
У меня нет ни насмешек, ни доводов, я наблюдаю и жду.
Я верю в тебя, моя душа, но другое мое Я не должно перед тобой унижаться,
И ты не должна унижаться перед ним.
Поваляйся со мной на траве, вынь пробку у себя из горла,
Ни слов, ни музыки, ни песен, ни лекций мне не надо, даже самых лучших,
Убаюкай меня колыбельной, рокотом твоего многозвучного голоса.
Я помню, как однажды мы лежали вдвоем в такое прозрачное летнее утро,
Ты положила голову мне на бедро, и нежно повернулась ко мне,
И распахнула рубаху у меня на груди, и вонзила язык в мое голое сердце,
И дотянулась до моей бороды, и дотянулась до моих ног.
Тотчас возникли и простерлись вокруг меня покой и мудрость, которые выше нашего земного рассудка,
И я знаю, что божья рука есть обещание моей,
И я знаю, что божий дух есть брат моего,
И что все мужчины, когда бы они ни родились, тоже мои братья, и женщины — мои сестры и любовницы,
И что основа всего сущего — любовь,
И что бесчисленные листья — и молодые и старые,
И бурые муравьи в своих маленьких шахтах под ними,
И мшистые лишаи на плетне, и груды камней, и бузина, и коровяк, и лаконоска.
Ребенок сказал: «Что такое трава?» — и принес мне полные горсти травы,
Что мог я ответить ребенку? Я знаю не больше его, что такое трава.
Может быть, это флаг моих чувств, сотканный из зеленой материи — цвета надежды.
Или, может быть, это платочек от бога,
Надушенный, нарочно брошенный нам на память, в подарок,
Где-нибудь в уголке есть и метка, чтобы, увидя, мы могли сказать чей?
Или, может быть, трава и сама есть ребенок, взращенный младенец зелени.
А может быть, это иероглиф, вечно один и тот же,
И, может быть, он означает: «Произрастая везде, где придется,
Среди чернокожих и белых людей,
И канука, и токахо,[108] и конгрессмена, и негра я принимаю одинаково, всем им даю одно».
А теперь она кажется мне прекрасными нестрижеными волосами могил.
Кудрявые травы, я буду ласково гладить вас,
Может быть, вы растете из груди каких-нибудь юношей,
Может быть, если бы я знал их, я любил бы их,
Может быть, вы растете из старцев или из младенцев, только что оторванных от материнского чрева,
Может быть, вы и есть материнское лоно.
Эта трава так темна, она не могла взрасти из седых материнских голов,
Она темнее, чем бесцветные бороды старцев,
Она темна и не могла возникнуть из бледно-розовых уст.
О, я вдруг увидал: это все языки, и эта трава говорит,
Значит, не зря вырастает она из человеческих уст.
Я хотел бы передать ее невнятную речь об умерших юношах и девушках,
А также о стариках, и старухах, и о младенцах, только что оторванных от матерей.
Что, по-вашему, сталось со стариками и юношами?
И во что обратились теперь дети и женщины?
Они живы, и им хорошо,
И малейший росток есть свидетельство, что смерти на деле нет,
А если она и была, она вела за собою жизнь, она не подстерегает жизнь, чтобы ее прекратить.
Она гибнет сама, едва лишь появится жизнь.
Все идет вперед и вперед, ничто не погибает.
Умереть — это вовсе не то, что ты думал, но лучше.
Думал ли кто, что родиться на свет — это счастье?
Спешу сообщить ему или ей, что умереть — это такое же счастье, и я это знаю.
Я умираю вместе с умирающими и рождаюсь вместе с только что обмытым младенцем, я весь не вмещаюсь между башмаками и шляпой.
Я гляжу на разные предметы: ни один не похож на другой, каждый хорош,
Земля хороша, и звезды хороши, и все их спутники хороши.
Я не земля и не спутник земли,
Я товарищ и собрат людей, таких же бессмертных и бездонных, как я
(Они не знают, как они бессмертны, но я знаю).
Все существует для себя и своих, для меня мое, мужское и женское,
Для меня те, что были мальчишками, и те, что любят женщин,
Для меня самолюбивый мужчина, который знает, как жалят обиды,
Для меня невеста и старая дева, для меня матери и матери матерей,
Для меня губы, которые улыбались, глаза, проливавшие слезы,
Для меня дети и те, что рождают детей.
Скиньте покровы! предо мною вы ни в чем не виновны, для меня вы не отжившие и не отверженные,
Я вижу сквозь тонкое сукно и сквозь гингэм[109],
Я возле вас, упорный, жадный, неутомимый, вам от меня не избавиться.
Младенец спит в колыбели,
Я поднимаю кисею, и долго гляжу на него, и тихо-тихо отгоняю мух.
Юнец и румяная девушка свернули с дороги и взбираются на покрытую кустарником гору,
Я зорко слежу за ними с вершины.
Самоубийца раскинулся в спальне на окровавленном полу,
Я внимательно рассматриваю труп с обрызганными кровью волосами и отмечаю, куда упал пистолет.
Грохот мостовой, колеса фургонов, шарканье подметок, разговоры гуляющих,
Грузный омнибус, кучер, зазывающий к себе седоков, цоканье копыт по булыжнику.
Сани, бубенчики, громкие шутки, снежки,
Ура любимцам толпы и ярость разгневанной черни,
Шелест занавесок на закрытых носилках — больного несут в больницу,
Схватка врагов, внезапная ругань, драка, чье-то паденье,
Толпа взбудоражена, полицейский со звездою быстро протискивается в середину толпы,
Бесстрастные камни, что принимают и отдают такое множество эхо,
Какие стоны пресыщенных или умирающих с голоду, упавших от солнечного удара или в припадке,
Какие вопли родильниц, застигнутых схватками, торопящихся домой, чтобы родить,
Какие слова жили здесь, и были похоронены здесь, и вечно витают здесь, какие визги, укрощенные приличием,
Аресты преступников, обиды, предложения продажной любви, принятие их и отказ (презрительным выгибом губ),
Я замечаю все это, отзвуки, отголоски и отсветы этого — я прихожу и опять ухожу.
Настежь распахнуты ворота амбара,
Медленно въезжает фургон, тяжело нагруженный сеном,
Яркий свет попеременно играет на зеленом и буром,
Новые охапки сена наваливают на примятый, осевший стог.
Я там, я помогаю, я приехал, растянувшись на возу,
Я чувствовал легкие толчки, одну ногу я закинул за другую,
Я ухватился за жерди и прыгаю с воза, я хватаю тимофеевку и клевер,
Я кубарем скатываюсь вниз, и мне в волосы набивается сено.
Далеко, в пустыни и горы, я ушел один на охоту,
Брожу, изумленный проворством своим и весельем,
К вечеру выбрал себе безопасное место для сна,
И развожу костер, и жарю свежеубитую дичь,
И засыпаю на ворохе листьев, а рядом со мною мой пес и ружье.
Клиппер несется на раздутых марселях, мечет искры и брызги,
Мой взор не отрывается от берега, я, согнувшись, сижу за рулем или с палубы лихо кричу.
Лодочники и собиратели моллюсков встали чуть свет и поджидают меня,
Я заправил штаны в голенища, пошел вместе с ними, и мы провели время отлично;
Побывали бы вы с нами у котла, где варилась уха.
На дальнем Западе видел я свадьбу зверолова, невеста была краснокожая,
Ее отец со своими друзьями сидел в стороне, скрестив ноги, молчаливо куря, и были у них на ногах мокасины, и плотные широкие одеяла свисали с их плеч.
Зверолов бродил по песчаному берегу, одетый в звериные шкуры, его шею скрывали кудри и пышная борода, он за руку держал свою невесту.
У нее ресницы были длинны, голова непокрыта, и прямые жесткие волосы свисали на ее сладострастное тело и достигали до пят.
Беглый раб забежал ко мне во двор и остановился у самого дома,
Я услышал, как хворост заскрипел у него под ногами,
В полуоткрытую кухонную дверь я увидел его, обессиленного,
И вышел к нему, он сидел на бревне, я ввел его в дом, и успокоил его,
И принес воды, и наполнил лохань, чтобы он вымыл вспотевшее тело и покрытые ранами ноги,
И дал ему комнату рядом с моею, и дал ему грубое чистое платье;
И хорошо помню, как беспокойно водил он глазами и как был смущен,
И помню, как я наклеивал пластыри на исцарапанную шею и щиколотки;
Он жил у меня неделю, отдохнул и ушел на Север,
Я сажал его за стол рядом с собою, а кремневое ружье мое было в углу.
Двадцать восемь молодых мужчин купаются у берега,
Двадцать восемь молодых мужчин, и все они так дружны;
Двадцать восемь лет женской жизни, и все они так одиноки.
Отличный дом у нее на пригорке у самого моря,
Красивая, богато одетая, за ставней окна она прячется.
Кто из молодых мужчин ей по сердцу больше всего?
Ах, и самый нескладный из них кажется ей красавцем!
Куда же, куда вы, милая? ведь я вижу вас,
Вы плещетесь в воде вместе с ними, хоть стоите у окна неподвижно.
И вот она прошла здесь по берегу, двадцать девятая, смеясь и танцуя,
Те не видят ее, но она видит и любит.
Бороды у молодых мужчин блестели от воды, вода стекала с их длинных волос,
Ручейки бежали у них по телам.
И так же бежала у них по телам рука-невидимка
И, дрожа, пробегает все ниже от висков и до ребер.
Молодые мужчины плывут на спине, и их животы обращаются к солнцу, и ни один не спросит, кто так крепко прижимается к нему.
И ни один не знает, кто это, задыхаясь, наклонился над ним
И кого он окатывает брызгами.
Подручный мясника снимает одежду, в которой он резал скот, или точит нож о базарную стойку,
Я замедляю шаги, мне по сердцу его бойкий язык, мне нравится, как он пускается в пляс.
Кузнецы с закопченною волосатою грудью встали вокруг наковальни,
У каждого в руках огромный молот, работа в разгаре, жарко пылает огонь.
Я стою на покрытом золою пороге,
Гибкость их станов под стать их могучим рукам,
Вниз опускаются молоты, вниз так медленно, вниз так уверенно,
Они не спешат, каждый бьет, куда надо.
Негр крепкой рукою держит вожжи четверки коней, камень, прикрученный цепью, качается у него под повозкой,
Из каменоломни он едет, прямой и высокий, он стоит на повозке, упершись ногой в передок,
Его синяя рубаха открывает широкую шею и грудь, свободно спускаясь на бедра,
У него спокойный, повелительный взгляд, он заламывает шляпу набекрень,
Солнце падает на его усы и курчавые волосы, падает на его лоснящееся, черное, великолепное тело.
Я гляжу на этого картинного гиганта, я влюблен в него и не могу удержаться на месте,
Я бегу с его четверкой наравне.
Во мне ласкатель жизни, бегущей куда бы то ни было, несущейся вперед или назад.
Я заглядываю в каждую нишу и наклоняюсь над мельчайшими тварями, не пропуская ни предметов, ни людей.
Я впитываю все для себя и для этой песни.
Быки, когда вы громыхаете ярмом и цепями или стоите под тенью листвы, что выражается в ваших глазах?
Мне кажется, больше, чем то, что за всю мою жизнь мне довелось прочитать.
Проходя, я спугнул дикую утку и дикого селезня во время моей далекой и долгой прогулки,
Обе птицы взлетают вместе и медленно кружат надо мной.
Я верю в эти крылатые замыслы,
Я признаю красное, желтое, белое, что играет во мне,
По-моему, зеленое и лиловое тоже далеко неспроста, и эта корона из перьев,
Я не зову черепаху негодной за то, что она черепаха,
И сойка в лесах никогда не учила гаммы, все же трели ее звучат для меня хорошо,
И взгляд гнедой кобылы выгоняет из меня всю мою постыдную глупость.
Дикий гусь ведет свою стаю сквозь холодную ночь,
«Я — хонк!» — говорит он, и это звучит для меня как призыв,
Пошляку это кажется вздором, но я, слушая чутко,
Понимаю, куда он зовет, там, в этом зимнем небе.
Северный острокопытный олень, кот на пороге, синица, степная собака,
Дети хавроньи, похрюкивающей, когда они тянут сосцы,
Индюшата и мать-индюшка с наполовину раскрытыми крыльями —
В них и во мне один и тот же вечный закон.
Сто́ит мне прижать ногу к земле, оттуда так и хлынут сотни любовей,
Перед которыми так ничтожно все лучшее, что могу я сказать.
Я влюблен в растущих на вольном ветру;
В людей, что живут среди скота, дышат океаном или лесом,
В судостроителей, в кормчих, в тех, что владеют топорами и молотами и умеют управлять лошадьми,
Я мог бы есть и спать с ними, из недели в неделю всю жизнь.
Что зауряднее, дешевле, ближе и доступнее всего — это Я,
Я играю наверняка, я трачу себя для больших барышей,
Я украшаю себя, чтобы подарить себя первому, кто захочет взять меня,
Я не прошу небеса опуститься, чтобы угодить моей прихоти,
Я щедро раздаю мою любовь.
Чисто контральто поет в церковном хоре,
Плотник строгает доску, рубанок у него каждый раз шепелявит с возрастающим пронзительным свистом,
Холостые, замужние и женатые дети едут к своим старикам в День Благодарения[110],
Лоцман играет в кегли и сильной рукой лихо сбивает короля,
Привязанный к мачте матрос стоит в китобойном боте, копье и гарпун у него наготове,
Охотник крадется за дичью,
Дьяконы стоят пред алтарем, скрестив руки у себя на груди, их посвящают в сан,
Прядильщица ходит взад и вперед под жужжание большого колеса,
Фермер выходит пройтись в воскресенье, и останавливается у плетня, и глядит на ячмень и овес,
Сумасшедшего везут наконец в сумасшедший дом, надежды на исцеление нет
(Не спать уж ему никогда, как он спал в материнской спальне);
Чахлый наборщик с седой головою наклонился над кассой,
Во рту он ворочает табачную жвачку, подслеповато мигая над рукописью;
Тело калеки привязано к столу у хирурга,
То, что отрезано, шлепает страшно в ведро;
Девушку-квартеронку продают с молотка, пьяница в баре клюет носом у печки,
Механик засучил рукава, полисмен обходит участок, привратник отмечает, кто идет,
Юнец управляет фургоном (я влюблен в него, хоть и не знаю его).
Метис шнурует свою легкую обувь перед состязанием в беге,
Охота на фазанов на Западе привлекает молодых и старых, одни оперлись на ружья, другие сидят на бревнах,
Из толпы выходит искусный стрелок, становится на свое место, прицеливается,
Толпы новоприбывших иммигрантов заполняют верфь или порт,
Курчавые негры машут мотыгами на сахарном поле, надсмотрщик наблюдает за ними с седла,
Рог трубит, призывает в бальную залу, кавалеры бегут к своим дамам, танцоры отвешивают друг другу поклоны,
Подросток не спит на чердаке под кедровой крышей и слушает музыку дождя,
Житель Уврайна[111] ставит западни для зверей у большого ручья, который помогает Гурону наполниться,
Скво[112] завернулась в материю с желтой обшивкой и предлагает купить мокасины и сумочки, расшитые бисером,
Знаток изогнулся и полуприщуренным глазом озирает картины на выставке,
Матросы закрепили пароходик у пристани и бросили на берег доску, чтобы дать пассажирам сойти,
Младшая сестра держит нитки для старшей, старшая мотает клубок, из-за узлов у нее всякий раз остановка,
Счастливая жена поправляется, неделю назад родила она первенца, ровно через год после свадьбы,
Чистоволосая девушка-янки работает у швейной машины или на заводе, на фабрике,
Мостовщик наклоняется над двурукой трамбовкой, быстрый карандаш репортера порхает по страницам блокнота,
Маляр пишет буквы на вывеске лазурью и золотом,
Мальчик-бурлак мелким шагом идет бечевой вдоль канала, бухгалтер сидит за конторкой над цифрами, сапожник натирает дратву воском,
Дирижер отбивает такт в оркестре, все музыканты послушны ему,
Крестят ребенка, новообращенный впервые исповедует в церкви свою новую веру,
Яхты заполняют всю бухту, гонки начались (как искрятся белые паруса!),
Гуртовщик следит, чтоб быки не отбились от стада, и звонким криком сзывает отбившихся,
Разносчик потеет под тяжестью короба (покупатель торгуется из-за каждого цента).
Невеста оправляет белое платье, минутная стрелка часов движется медленно,
Курильщик опия откинул оцепенелую голову и лежит с отвисающей челюстью,
Проститутка волочит шаль по земле, ее шляпка болтается сзади на пьяной прыщавой щее,
Толпа смеется над ее похабною бранью, мужчины глумятся, друг другу подмигивая
(Жалкая! Мне не смешна твоя брань, и я не глумлюсь над тобой),
Президент ведет заседание совета, окруженный важными министрами,
По площади, взявшись под руки, величаво шествуют три матроны,
Матросы рыболовного смака[113] складывают в трюмы пласты палтуса один на другой,
Миссуриец пересекает равнины со своим скотом и товаром,
Кондуктор идет по вагону получить с пассажиров плату и дает знать о себе, бренча серебром и медяками,
Плотники настилают полы, кровельщики кроют крышу, каменщики кричат, чтобы им подали известь,
Рабочие проходят гуськом, у каждого на плече по корытцу для извести,
Одно время года идет за другим, и четвертого июля[114] на улицах несметные толпы (какие салюты из пушек и ружей!),
Одно время года идет за другим, пахарь пашет, косит косарь, и озимое сыплется наземь,
На озерах стоят щуколовы и не отрываясь глядят в обледенелую прорубь,
Частые пни обступают прогалину, скваттер[115] рубит топором что есть силы,
Под вечер рыбаки в плоскодонках причаливают к орешнику или к тополю,
Охотники за енотами рыщут в области Красной реки, или Арканзаса, или Теннесси,
Факелы сверкают во мгле, что висит над Чаттахучи или Альтомахо[116],
Патриархи сидят за столом с сынами, и сынами сынов, и сыновних сынов сынами,
В стенах эдобе[117] и в холщовых палатках отдыхают охотники после охоты,
Город спит, и деревня спит,
Живые спят, сколько надо, и мертвые спят, сколько надо,
Старый муж спит со своею женою, и молодой муж спит со своею женой,
И все они льются в меня, и я вливаюсь в них,
И все они — я,
Из них изо всех и из каждого я тку эту песню о себе.
Я и молодой и старик, я столь же глуп, сколь и мудр,
Нет мне забот о других, я только и забочусь о других,
Я и мать и отец равно, я и мужчина, и малый ребенок,
Я жесткой набивкой набит, я мягкой набит набивкой,
Много народов в Народе моем, величайшие народы и самые малые,
Я и северянин и южанин, я беспечный и радушный садовод, живущий у реки Окони[118],
Янки-промышленник, я пробиваю себе в жизни дорогу, у меня самые гибкие в мире суставы и самые крепкие в мире суставы,
Я кентуккиец, иду по долине Элкхорна[119] в сапогах из оленьей кожи, я житель Луизианы или Джорджии,
Я лодочник, пробираюсь по озеру, или по заливу, или вдоль морских берегов, я гужер, я бэджер, я бэкай,[120]
Я — дома на канадских лыжах, или в чаще кустарника, или с рыбаками Ньюфаундленда,
Я — дома на ледоходных судах, я мчусь с остальными под парусом.
Я — дома на вермонтских холмах, и в мэнских лесах, и на ранчо Техаса.
Я калифорнийцам товарищ и жителям свободного Северо-Запада, они такие дюжие, рослые, и мне это любо,
Я товарищ плотовщикам и угольщикам, всем, кто пожимает мне руку, кто делит со мною еду и питье,
Я ученик средь невежд, я учитель мудрейших,
Я новичок начинающий, но у меня опыт мириады веков,
Я всех цветов и всех каст, все веры и все ранги — мои,
Я фермер, джентльмен, мастеровой, матрос, механик, квакер[121],
Я арестант, сутенер, буян, адвокат, священник, врач.
Я готов подавить в себе все, что угодно, только не свою многоликость,
Я вдыхаю в себя воздух, но оставляю его и другим,
Я не чванный, я на своем месте.
(Моль и рыбья икра на своем месте,
Яркие солнца, которые вижу, и темные солнца, которых не вижу, — на своем месте,
Осязаемое на своем месте, и неосязаемое на своем месте.)
Это поистине мысли всех людей, во все времена, во всех странах, они родились не только во мне,
Если они не твои, а только мои, они ничто или почти ничто,
Если они не загадка и не разгадка загадки, они ничто,
Если они не столь же близки мне, сколь далеки от меня, они ничто.
Это трава, что повсюду растет, где есть земля и вода,
Это воздух, для всех одинаковый, омывающий шар земной.
С шумной музыкой иду я, с барабанами и трубами,
Не одним лишь победителям я играю мои марши, но и тем, кто побежден.
Ты слыхал, что хорошо победить и покорить?
Говорю тебе, что пасть — это так же хорошо;
Я стучу и барабаню, прославляю мертвецов,
О, трубите мои трубы, веселее и звончей.
Слава тем, кто побежден!
Слава тем, у кого боевые суда потонули в морях!
И тем, кто сами потонули в морях!
И всем полководцам, проигравшим сражение, и всем побежденным героям,
И несметным безвестным героям, как и прославленным, слава!
Это стол, накрытый для всех, это пища для тех, кто по-настоящему голоден,
Для злых и для добрых равно, я назначил свидание всем,
Я никого не обижу, никого не оставлю за дверью,
Вор, паразит и содержанка — это и для вас приглашение,
Раб с толстыми губами приглашен, сифилитик приглашен;
Не будет различия меж ними и всеми другими.
Вот — робкое пожатие руки, вот — развевание и запах волос,
Вот — прикосновение моих губ к твоим, вот — страстный, призывный шепот.
Вот высоты и бездонные глубины, в них отражено мое лицо,
Я погружаюсь в раздумье и возникаю опять.
По-твоему, я притворщик, и у меня затаенные цели?
Ты прав, они есть у меня, так же как у апрельских дождей и у слюды на откосе скалы.
Тебе кажется, что я жажду тебя удивить?
Удивляет ли свет дневной? или горихвостка, поющая в лесу спозаранку?
Разве я больше удивляю, чем они?
В этот час я с тобой говорю по секрету,
Этого я никому не сказал бы, тебе одному говорю.
Эй, кто идет? пылкий, бесстыдный, непостижимый, голый,
Как добываю я силу из мяса, которое ем?
Что такое человек? и что я? и что вы?
Все, что я называю моим, вы замените своим,
Иначе незачем вам и слушать меня.
Я не хнычу слюнявым хныком, как хнычут другие,
Будто месяцы пусты, а земля — это грязь и навоз.
Жалобы и рабья покорность — в одной упаковке с аптечным порошком для больных, условности — для дальней родни,
Я ношу мою шляпу, как вздумаю, и в комнате и на улице.
Отчего бы я стал молиться? и благоговеть, и обрядничать?
Исследовав земные пласты, все до волоска изучив, посоветовавшись с докторами и сделав самый точный подсчет,
Я нахожу, что нет мяса милей и дороже, чем у меня на костях.
Во всех людях я вижу себя, ни один из них не больше меня и не меньше даже на ячменное зерно,
И добрые и злые слова, которые я говорю о себе, я говорю и о них.
Я знаю, я прочен и крепок,
Все предметы вселенной, сливаясь воедино, стекаются отовсюду ко мне,
Все они — письма ко мне, и я должен проникнуть в их смысл.
Я знаю, что я бессмертен,
Я знаю, моя орбита не может быть измерена циркулем плотника,
Я не исчезну, как исчезает огнистый зигзаг, который горящею палочкой чертят мальчишки в потемках.
Я знаю, что я властелин,
Я не стану беспокоить мою душу, чтобы она за себя заступилась или разъяснила себя,
Я вижу, что законы природы никогда не просят извинений
(В конце концов я веду себя не более заносчиво, чем отвес, по которому я строю мой дом).
Я таков, каков я есть, и не жалуюсь;
Если об этом не знает никто во вселенной, я доволен,
Если знают все до одного, я доволен.
Та вселенная, которая знает об этом, для меня она больше всех, и эта вселенная — Я,
И добьюсь ли я победы сегодня, или через десять тысяч, или через десять миллионов лет,
Я спокойно приму ее сегодня, и так же спокойно я могу подождать.
Мои ноги крепко вделаны в пазы гранита,
Я смеюсь над тем, что зовется у вас распадом,
И я знаю безмерность времен.
Я поэт Тела, и я поэт Души,
Радости рая во мне, мучения ада во мне,
Радости я прививаю себе и умножаю в себе, а мучениям я даю новый язык.
Я поэт женщины и мужчины равно,
И я говорю, что быть женщиной — такая же великая участь, как быть мужчиной,
И я говорю, что нет более великого в мире, чем быть матерью мужчин.
Я пою песнь расширения и гордости,
Довольно унизительных попреков,
Величина — это только развитие.
Ты опередил остальных? ты стал президентом?
Ничего, они догонят тебя, все до одного, и перегонят.
Я тот, кто блуждает вдвоем с нежной, растущей ночью,
Я взываю к земле и к морю, наполовину погрузившимся в ночь.
Ближе прижмись ко мне, гологрудая ночь, крепче прижмись ко мне, магнетическая, сильная ночь, вскорми меня своими сосцами!
Ночь, у тебя южные ветры, ночь, у тебя редкие и крупные звезды!
Тихая, дремотная ночь — безумная, голая летняя ночь.
Улыбнись и ты, сладострастная, с холодным дыханьем, земля!
Земля, твои деревья так сонны и влажны!
Земля, твое солнце зашло, — земля, твои горные кручи в тумане!
Земля, ты в синеватых стеклянных струях полнолунья!
Земля, твои тени и блики пестрят бегущую реку!
Земля, твои серые тучи ради меня посветлели!
Ты для меня разметалась, земля, — вся в цвету яблонь, земля!
Улыбнись, потому что идет твой любовник!
Расточающая щедрые ласки, ты отдалась мне со страстью — и я тебе с такой же страстью,
С такой огненной любовью, перед которой ничтожны слова, — и я отвечаю любовью!
О, безумной любовью!
Море! Я и тебе отдаюсь — вижу, чего ты хочешь,
С берега я разглядел, как манят меня твои призывные пальцы.
Я верю, ты не захочешь отхлынуть, пока не обнимешь меня,
Идем же вдвоем, я разделся, поскорее уведи меня прочь от земли,
Мягко стели мне постель, укачай меня дремотой своей зыби,
Облей меня любовною влагою, я могу отплатить тебе тем же.
Море, вздуты холмами длинные твои берега,
Море, широко и конвульсивно ты дышишь,
Море, ты жизни соль, но вечно раскрыты могилы твои,
Ты воешь от бешеных штормов, ты вихрями вздымаешь пучину, капризное, нежное море,
Море, я с тобой заодно, я тоже многоликий и единый.
Во мне и прилив и отлив, я певец примирения и злобы,
Я воспеваю друзей и тех, кто спят друг у друга в объятьях.
Я тот, кто провозглашает любовь.
(Я, составляющий опись вещей, что находятся в доме, могу ли я не учесть самый дом, вмещающий в себя эти вещи?)
Я не только поэт доброты, я не прочь быть поэтом злобы.
Что это там болтают о распутной и о праведной жизни?
Зло толкает меня вперед, и добро меня толкает вперед, между ними я стою равнодушный.
Поступь моя не такая, как у того, кто находит изъяны или отвергает хоть что-нибудь в мире,
Я поливаю корни всего, что взросло.
Или очуметь вы боитесь от этой непрерывной беременности?
Или, по-вашему, плохи законы вселенной и надобно сдать их в починку?
Я знаю, эта сторона в равновесии, и другая сторона в равновесии,
Сомнение служит мне такой же надежной опорой, как и непоколебимая вера,
Нынешние наши поступки и мысли — лишь первые шаги бытия.
Эта минута добралась до меня после миллиарда других,
Лучше ее нет ничего.
И это не чудо, что столько прекрасного было и есть среди нас,
Гораздо удивительнее чудо, что могут среди нас появляться и негодяй и неверный.
Бесконечно в веках расцветание слов!
И я говорю новое слово, это слово: «En Masse»[122].
Слово веры, которое никогда не обманет,
Сейчас или позже — все равно для меня, я принимаю Время абсолютно.
Оно одно без изъяна, в нем завершение всего,
Это дивное, непостижимое чудо, в нем одном завершение всего.
Я принимаю Реальность без всяких оговорок и вопросов,
Материализмом пропитан я весь.
Ура позитивным наукам! Да здравствует точное знание!
Принесите мне очиток[123] и кедр, венчайте их веткой сирени,
Этот — лингвист, тот — химик, тот создал грамматику египетских древних письмен,
Эти — мореходы, провели свой корабль по неведомым и грозным морям,
Этот — математик, тот — геолог, тот работает скальпелем.
Джентльмены! вам первый поклон и почет!
Ваши факты полезны, но жилье мое выше и дальше,
Они только ступени к жилью моему, и по ним я пробираюсь туда.
Меньше напоминают слова мои об атрибутах вещей,
И больше напоминают они о несказанной жизни, о воле, о свержении рабских оков,
Они знать не хотят бесполых, они презирают кастратов, им по сердцу полноценные мужчины и женщины,
И бьют они в гонг восстания, они заодно с беглецами, с заговорщиками, с теми, кто замышляет бунт.
Уолт Уитмен, космос, сын Манхаттена,
Буйный, дородный, чувственный, пьющий, едящий, рождающий,
Не слишком чувствителен, не ставлю себя выше других или в стороне от других,
И бесстыдный и стыдливый равно.
Прочь затворы дверей!
И самые двери долой с косяков!
Кто унижает другого, тот унижает меня,
И все, что сделано, и все, что сказано, под конец возвращается ко мне.
Сквозь меня вдохновение проходит волнами, волнами, сквозь меня поток и откровение.
Я говорю мой пароль, я даю знак: демократия,
Клянусь, я не приму ничего, что досталось бы не всякому поровну.
Сквозь меня так много немых голосов,
Голоса несметных поколений рабов и колодников.
Голоса больных, и отчаявшихся, и воров, и карликов,
Голоса циклов подготовки и роста,
И нитей, связующих звезды, и женских чресел, и влаги мужской,
И прав, принадлежащих униженным,
Голоса дураков, калек, бездарных, презренных, пошлых,
Во мне и воздушная мгла, и жучки, катящие навозные шарики.
Сквозь меня голоса запретные,
Голоса половых вожделений и похотей, с них я снимаю покров,
Голоса разврата, очищенные и преображенные мною.
Я не зажимаю себе пальцами рот, с кишками я так же нежен, как с головою и с сердцем,
Совокупление для меня столь же священно, как смерть.
Верую в плоть и ее аппетиты,
Слух, осязание, зрение — вот чудеса, и чудо — каждый крохотный мой волосок.
Я божество и внутри и снаружи, все становится свято, чего ни коснусь и что ни коснется меня,
Запах моих подмышек ароматнее всякой молитвы,
Эта голова превыше всех Библий, церквей и вер.