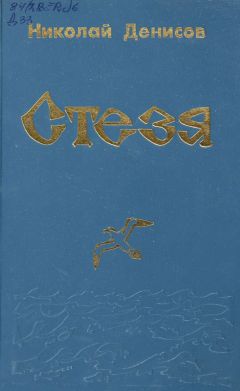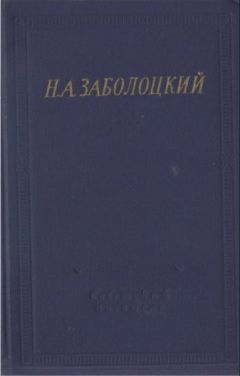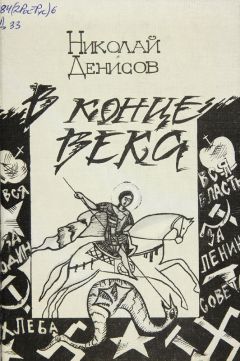Автор неизвестен - Европейская поэзия XVII века
ВЕНГРИЯ
МИКЛОШ ЗРИНИ
Время на крыльях летит,
Не ожидая, спешит,
Мчится, как бурный поток.
Ты его не повернешь,
Богатыря не найдешь,
Чтоб задержать его мог.
Бедного и богача,
Слабого и силача —
Всех победит оно в срок.
В мире не подчинено
Времени только одно,
Только одно перед ним,
Перед разящей косой,
Перед губящей красой
Не разлетится, как дым.
Только лишь слава одна,
Слава на свете вечна,
Трон ее неколебим.
Нет, я пишу не пером,
А обагренным мечом,
Адам Эльсхеймер. Художник, взывающий к гению живописи.
Нет, мне не надо чернил,
Кровью я здесь начертил
Вечную славу мою.
В гроб ли положат меня, солнце ли прах мой сожжет,—
Только бы не потерять честь, когда гибель придет.
Пусть мепя ворон склюет, пусть загрызет меня волк,—
Будет земля подо мной, а надо мной пебосвод.
Фаркашича уж нет. Пришел его черед.
Пред господом душа героя предстает,
А Зрини горестный над гробом слезы льет
И, жалуясь на рок, такую речь ведет:
«О, переменчивый несправедливый рок!
Героя славного зачем от нас увлек?
Зачем для подвигов его не поберег?
Фаркашич храбрый мертв, а быть живым ои мог.
О жизнь, ты коротка, ты молнии быстрей,
Пересыхаешь вдруг, как в жаркий день ручей,
От нас уходишь ты, когда всего нужней,
Бежишь в небытие, как росы от лучей.
Как росы от лучей, как сладкий сон от глаз,
Как дымы от костра, который вдруг погас,
Как стая облаков от ветра в бури час,
Как снег от пламени, — так жизнь бежит от нас.
Поганый змей ползет, шипя, на жаркий склон,
Угрюмой старостью ничуть не угнетен,
Не страшен для него жестокий бег времен,
Он шкуру сбросит прочь — и станет юным он.
А человек не то. Хоть создало его
Почти по своему подобью божество,
Ему не принесет спасенья ничего,
И ждет его в конце лишь смерти торжество.
Стареет вся земля осеннею порой,
Но молодеет вновь цветущею весной,
И солнце вечером уходит на покой,
Но ясным утром вновь сияет над горой.
И только мученик несчастный, человек,
Уходит навсегда, бросает мир навек.
Неиссякаемы, глубоки воды рек,
И невозвратен лишь горячей крови бег.
Да, вечны воды, лес, земля, и лишь один
Мгновенен человек, их царь и господин.
Создатель прочных стен, стоящих тьму годин,
Не доживает он порой и до седин.
Лишь добродетелям могила не предел,
Тот будет вечно жить, кто справедлив и смел,
Пребудет навсегда величье добрых дел,
Бессмертье славное — счастливый их удел.
Фаркашич, дел твоих векам не расколоть.
Пусть тяжкая земля твою укрыла плоть,
Но подвигами смерть умел ты побороть,
И правою рукой вознес тебя господь.
Ты будешь награжден за твой упорный труд,
Крылами ангелы кровь ран твоих утрут.
За то, что родине служил ты верно тут,
Там, в небесах, тебе блаженством воздадут».
ИШТВАН ДЁНДЕШИ
И вот уже зовут искусных мастеров,
Не тех, что красят ткань во множество цветов,
Не тех, что создают изделья из шелков,
А Бронтов молодых, могучих кузнецов,
Сейчас покинувших угрюмой Этны свод,
Пещеру, где Вулкан по наковальне бьет.
Явились шестеро, шагнув из тьмы вперед,
Из их косматых ртов горячий дым идет,
Блестят железные опилки на щеках,
И угольная пыль лежит на их плечах,
Ожоги давние краснеют на локтях,
Большие молоты в могучих их руках.
От копоти они как дьяволы черны,
Концы усов, бород огнем обожжены,
Их брови пламенем давно опалены,
От жара лица их суровые красны.
Но богатырская и мощь у них, и стать,
Огромных гор хребты могли б они поднять,
Все, что задумают, по силам им создать,
Железу звонкому любую форму дать.
Железа фунтов сто тем кузнецам несут.
Пусть наколенники для Кеменя скуют —
Два панциря для ног. Они с размаха бьют.
О, как упорен их поспешный умный труд!
Дохнули в горн мехи дыханьем огневым,
Как будто над огнем Эуры крутят дым,
Как будто сам Вулкан бьет молотом своим,
Как будто трудятся циклопы вместе с ним.
Железо докрасна в огне накалено,
Освобождается от ржавчины оно.
Все шатким пламенем вокруг озарено,
Румяным отблеском огня напоено.
Один работает мехами, а другой
Мешает уголья огромной кочергой,
Тот брызжет в жаркий горн холодною водой,
А этот — длинный брус клещами гнет дугой.
Железный черный брус в зарп окрашен цвет,—
Как будто ночи тьму вдруг озарил рассвет,—
На нем нн ржавчины, ни грязных пятен нет,
В податливых боках глубоких вмятин след.
Тяжелых молотов стремителен полет,
Кузнец за кузнецом по очереди бьет,
Большими каплями с их тел стекает пот,
Рой искр взлетающих блестит, жужжит, поет.
Уж солнце ясное давным-давно зашло,
А в старой кузнице по-прежнему светло.
И светится она, ночным теням назло,
Как Этны огненной бурлящее жерло.
Пучки горячих искр созвездиям сродни,
Как множество комет, они летят, взгляни,
Пронизывая тьму полуночи, они
Бесчисленнее, чем болотные огни.
У кузнецов ушло железа пять кусков.
Из наколенников один уже готов.
Мелькают молоты могучих молодцов,
Куются обручи из выгнутых брусков.
Готов уж и второй. Все кончено. И вот
На наколенники вода, шипя, течет,
И пара белый столб до потолка встает,
А кузнецы со лбов и шей стирают йог.
ИЗ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ
Что, земляк, печалишься, что глядишь с тоскою?
Бог-господь поможет — станет жизнь другою.
Солнышко пригреет — луг зазеленеет,
Мы по белу свету вновь пойдем с тобою.
— Как же не печалиться, коль печаль за мною
Днем и ночью ходит, друг ты мой желанный,
Коль такой мне выпал жребий окаянный,
Коль грызут заботы сердце беспрестанно?
Доломан мой порван — тело видно стало,
На штанах заплаты — не сочтешь, пожалуй,
Шляпа так свалялась, что пиши пропало,
Ветхий полушубок лоснится от сала.
Плащ мой износился на дожде, на стуже,
В тряпки превратился — ни на что не нужен,
Сапоги ж такие, что не сыщешь хуже,—
Вот дела какие, мой бесценный друже!
Корма нет, и лошадь в клячу превратилась,
На седле давно уж стерлись украшенья.
А на дом посмотришь — крыша провалилась,—
Всюду запустенье, всюду разрушенье.
Хлеб доеден, мяса ж вовсе не бывало,—
И в желудке пусто, и в кармане пусто:
Денег от работы достается мало,
А сказать по правде — их совсем не стало.
Конь пристал — подкова, видишь, оторвалась,—
Этакое горе, этакая жалость!
Подкуешь — поедешь. А не то — осталось
Пешему по свету поскитаться малость.
Мех на волчьей шкуре клочьями повылез,
На гвозде покрылась паутиной фляга.
Вся черна от грязи белая рубаха,
Вши по ней гуляют целою ватагой…
Ну, да ну их к черту, все невзгоды эти!
Как-нибудь, а все же проживу на свете.
Лягу брюхом к солнцу, если в брюхе пусто,
Трубку закурю я — дешево и вкусно.
На чужой, на неприютной,
На неласковой земле
Он — один в лесу дремучем
С горькой думой на челе.
На него деревья тихо
Осыпают желтый лист.
И, на скорбный плач похожий,
Раздается птичий свист.
Конь пасется, не расседлан,
У седла повис кинжал —
Тот, которым прямо в сердце
Куруц немцев поражал.
Белый плащ турецкий брошен
На помятую траву.
На него склоняет куруц
Непокрытую главу.
Все печальней птичье пенье,
Все тревожней лес шумит.
И одна на сердце дума —
Спит ли куруц иль не спит:
«Что за мир, когда в изгнанье,
В край чужой солдат идет.
Если мать о нем и плачет,
То народ его клянет.
Что за мир, коль нет приюта
Для солдата, для бойца.
Только горы, только скалы,
Только темные леса.
Нашу скорбную дорогу
Заметает листопад,
И оплакивают птицы
Нашу славу, друг-солдат.
Я уйду — и не узнать вам,
Где, в какой я стороне.
А узнали б, так, наверно,
Тоже плакали по мне.
Я возьму поводья в руки,
Ногу в стремя я вложу:
Из родного края в Польшу
Ухожу я, ухожу.
Бог с тобой, земля родная,
Что ты стала вдруг чужой.
Но одну тебя люблю я
Всею кровью, всей душой».
Так он с родиной простился, —
Нет ему пути назад.
Под печальный шум деревьев
Едет изгнанный солдат.
Пусть же тень его укроет,
Пусть тропа его ведет,
Пусть хотя б в воспоминаньях
Утешенье он найдет.
Эту песню мы сложили
Там — над Ужем, над рекой,
В час, когда мы уходили,
Покидая край родной.
Палко Чином, Янко Чином,
Карабин мой костяной.
Патронташ мой шелковистый
Пистолет мой нарезной!
Выпьем, храбрые солдаты,
Для здоровья по одной,—
Выпьем, спляшем, погуляем
Кто с невестой, кто с женой!
Для печали нет причины,—
Нынче в Альфельд мы идем,
Чванных немцев-иноземцев
Расколотим, разобьем!
Между Тисой и Дунаем
Путь свободен, друг-солдат!
Если ж немца повстречаем —
Значит, сам он виноват.
Мы покажем иноземцам,
Мы докажем им в бою
Силу нашего народа,
Честь солдатскую свою.
Улепетывает немец,
Даже бросил свой фитиль.
Шляпа — старый гриб осенний —
С головы слетает в пыль.
Храбрый куруц не боится.
Не страшится ничего.
Он — в богатом доломане,
Конь горячий у него.
У него сверкают шпоры
Да на красных сапогах.
Если ж он обут и в лапти,
То портянки — в жемчугах.
Сабля золотом покрыта —
Солнца ясного ясней.
Из куницы шапка сшита,
И звезда видна на ней.
Куруц — бархат драгоценный,
Изумруд — жена его.
Немец — тряпка. А с женою —
Лихорадка у него.
Пусть же немцы уберутся
Поскорее с наших глаз.
А не то — такое будет!
Не пеняют пусть на нас.
Было их, было двенадцать по счету,
Каждый на крепости Дэва работал,—
Стены из камня они воздвигали.
Только те стены недолго стояли:
За день поставят — разрушатся ночью,
За ночь поставят — разрушатся утром.
Келемен дал нерушимое слово:
«Чья бы жена ни явилася первой,—
Камнем обложим ее, замуруем
И обожжем, чтоб, скрепленная кровью,
Наша твердыня стояла вовеки…»
Келемен видит: жена его первой
К крепости Дэва несет ему завтрак,—
На голове поместила корзинку,
А на руках ее — малый ребенок…
«Господи, господи! Лютого зверя
Ты перед нею поставь на дороге,—
Может, вернется…»
Но нет, не вернулась.
«Господи, господи! Пусть ее лучше
Каменный дождь осыпает из тучи,—
Может, вернется…»
Но нет, не вернулась.
«Здравствуйте, здравствуйте, добрые люди!
Боже мой, боже мой! Что это значит?
Всем поклонилась, а вы — как немые…»
«Келемен — муж твой — дал клятву такую:
Чья бы жена ни явилася первой,—
Камнем обложим ее, замуруем
И обожжем… Ты явилася первой».
«Что ж, если он меня так ненавидит,
Я соглашаюсь…»
Сняли корзинку и взяли малютку,
Стали закладывать женщину камнем:
Скрылись колени — считала за шутку,
Скрылся живот — посчитала за глупость,
Грудь заложили — поверила: правда!
«Мальчик мой! Люди тебя не оставят:
Добрая женщина грудью накормит,
Добрые дети с тобой поиграют,
Птицы тебя убаюкают пеньем,
Мальчик мой милый!..»
«Где моя мама, отец мой, отец мой!»
«Полно, малютка, воротится к ночи».
Ночь наступила, а матери иету…
«Где ж моя мама, отец мой, отец мой!»
«Полно, сыночек, под утро вернется».
Утро проходит, а матери нету…
Умерли оба…
В путь собрался Мартон Айго,
В путь — в далекую дорогу.
Повстречал он Анну Молнар
У домашнего порога.
— Не пойду я, Мартон Айго,
На кого я дом покину?
На кого оставлю мужа
И трехмесячного сына?
Будет плакать сын мой милый.
Не пошла. Похитил силой.
Двое скачут по дороге.
Друг за другом едут двое.
Под ветвистым старым дубом
Оба спешились от зноя.
— Посмотри в глаза мне, Анна.
Отчего лицо ты прячешь?
На щеках я вижу слезы,—
Ты о чем, голубка, плачешь?
Отвечает Анна Молнар:
— Что вы, сударь! Я не плачу,
То роса с вершины дуба
Пала каплею горячей.
По ветвям взобрался Айго
И с вершины на поляну
Уронил палаш свой острый…
— Подыми! — он просит Анну.
Но она швырнула метко
Тот палаш с такою силой,
Что и рыцаря и ветку
Пополам перерубила.
А потом, сорвав доспехи
С остывающего тела,
Доломан его широкий
На себя она надела.
Возвратилась Анна Молнар
Поздним вечером к воротам,
И знакомый голос мужа
Со двора окликнул: — Кто там?
— Приюти меня, хозяин,
Тьма спускается ночная!
— Не могу, почтенный рыцарь,
Как зовут тебя, не знаю.
— Приюти меня, хозяин.
Только ночь переночую.
— Не проси, любезный рыцарь,
Рад впустить, да не могу я.
— Не забуду я, хозяин,
Никогда твоей услуги! —
И впустил он Анну Молнар,
Не узнав своей супруги.
— Извини меня, хозяин,
Что не вовремя разбужен.
Не достанешь ли в деревне
Для меня винца на ужин?
А сама пошла к постели,
Где лежал младенец милый,
Доломан свой расстегнула,
Сына грудью покормила.
Мартон Дюла Кату Кадар —
Дочь родную крепостного,—
С первых встреч и с первых взглядов
Полюбил и дал ей слово.
«Мать родная, мать родная,
Дорогая!
Окажите, окажите
Милость мне большую:
Взять женою разрешите
Кату Кадар — крепостную».
«Не могу я дать такого
Позволенья сыну,—
Ты венчайся, Мартон Дюла,
С дочкой дворянина».
«Нет, не надо мне, не надо
Дочку дворянина:
Полюбил я Кату Кадар,—
Разве ж я покину?»
«Если так, то я отвечу —
Не раскаюсь:
От тебя я, Мартон Дюла,
Отрекаюсь…»
«Кучер мой, кучер,
Кучер мой лучший!
Готовь мне карету —
Поеду скитаться
По белому свету».
Отъезжает Мартон,
Ката смотрит в очи
И ему на память
Дарит свой платочек:
«Если мой платочек цветом станет красный,—
Знай, что изменился жребий мой несчастный».
Едет Мартон Дюла,
Едет на чужбину —
Скачет днем и ночью.
Среди леса вынул
Мартон тот платочек.
«Кучер мой, кучер,
Кучер мой лучший!
Назад поскорее,
Назад побыстрее!
Мой бедный платочек —
Он сделался красным,—
Судьба изменилась
У Каты несчастной».
Мартон свинопаса встретил у деревни:
«Расскажи, поведай, Новости какие?»
«Здесь у нас — хорошие,
У тебя ж — плохие:
По приказу матушки
Кату погубили,
В озере бездонном
Кату утопили.
Трижды на поверхность
Выплывала Ката,—
На четвертом разе
Сгибла без возврата».
«Кучер мой, кучер,
Кучер мой лучший!
К бездонному озеру,
Сил не жалея,
Гони побыстрее,
Гони поскорее!»
Кони прилетели к озеру поспешно,
И воскликнул Мартон, Мартон безутешный:
«Где ж ты, где — ответь мне,
Друг мой Ката Кадар?»
«Здесь я, здесь, любимый,
Друг мой Мартон Дюла!»
Слышит Мартон Дюла
И — как камень — в воду!
В воду, в вир бездонный!
В озере бездонном обнял Мартон Кату:
«Вместе, вместе будем!»
Но и там нашли их,
Разлучили люди:
Мартона зарыли впереди престола,
А ее зарыли позади престола.
Расцвели над ними два цветка пригожих
И обнялись крепко над престолом божьим.
Мать цветы сорвала,
Растоптала злобно.
И один ответил
Ей цветок надгробный:
«Будь ты проклята навеки!
Ты меня сгубила,
Принесла мне столько горя,
А теперь убила…»
ГЕРМАНИЯ