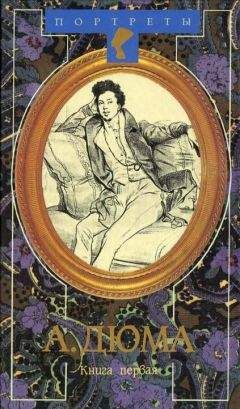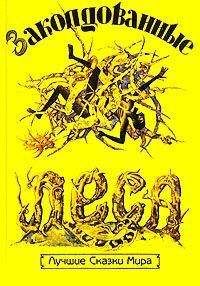Орли Кастель-Блюм - Рассказы
Того, кто убивает, даже по ошибке, двенадцать купающихся в бассейне Кантри клуба, называют палачом.
В одной из местных газет в Шароне писали: «В поселке имеется палач».
Я пишу сейчас потому, что мне кажется, что я забываю иврит. Но забываю ли я иврит? Разумеется, я забываю мой иврит. И что, если я забываю мой иврит? Зачем мне нужен еще мой иврит? Зачем мне, в сущности, нужен иврит?
На этих празднествах, на которые я ходила, на коктейлях, что устраивала израильская община в Панама Сити, в воздухе носилось ясное и однозначное упреждение, что если я все таки осмеливаюсь обнаруживать себя и являться на общественные мероприятия, то место мое где-то там, на задах. С соответствующей миной на лице, подобающей тому, кто опозорил себя на весь мир. Ну, а если у меня как раз хорошее настроение, просто так? Нет. Я должна бродить хмурая как среда на пятницу, горестная, злая, окутанная преступлением и наказанием. А эти взгляды! Что они себе думают, я не замечаю?
Однажды я от души расхохоталась из-за анекдота, который кто-то рассказывал. Вокруг воцарилось молчание, как будто я и смех — вещи несовместные. Кто-то сказал, что это действительно был очень смешной анекдот, если он рассмешил даже меня.
После этого посещения посольских апартаментов, я решила не отираться там больше, и прервала всякую связь с израильской общиной, и вообще со всей говорящей на иврите публикой в Панама Сити.
Прошлой зимой из-за какого-то вируса у меня отключилась половина лица. Врачам-терапевтам, после долгой возни, удалось все-таки включить ее снова, но я с трудом чувствовала там что-нибудь, и все время мне казалось, что у меня отсутствует левая сторона лица, или что она совершенно искалечена. Хотя, когда я касалась ее, все было нормально, и только во время разговора, можно было заметить, что есть какая-то проблема.
Я снова стала играть на фортепьяно. Это случилось так. Я поехала в город, купила красивый, белый рояль. Там порекомендовали мне хорошего учителя, у которого есть терпение, и я попала к одному, который обучал меня прелестным менуэтам. Дважды в неделю я брала у него уроки, и как в армии, упорно тренировалась в этюдах, которые он давал мне.
Однажды он не пришел на урок. И на следующий тоже. Я позвонила ему домой, и услышала сообщение, проговоренное женским голосом, о том, что Хулио Кортазарос не дает больше уроков фортепьяно, поскольку наложил на себя руки, разочаровавшись в любви. И я подумала — черт возьми этих латиносов, все принимать так близко к сердцу?
Я продолжала обучать саму себя фортепьяно. Не хотела иметь дело с новым учителем. К тому же, правду говоря, я была вся в трауре по случаю смерти моего учителя Хулио Кортазароса. Мою совесть грызла мысль, что я не догадалась, что у него большие неприятности, я только позволяла себе умиляться, как мальчик играет.
Однажды днем я взяла такси и поехала к нему домой. Хотела узнать, кто та женщина, которая разбила сердце моего учителя. Я ехала к нему домой, как будто она будет ждать меня там.
В квартире Кортазароса уже хозяйничали его родственники. В квартире появился беспорядок, и в то же время, чувствовалась новая жизнь, другая. Дверь открыла его сестра. Она была похожа на него и так же разговаривала. Она была его сестрой. Но в противоположность его терпению, она была очень нервозной.
Я сказала ей: «Здравствуйте, я хотела бы узнать, кто та девушка, из-за которой покончил с собой Хулио. Так печально, что его нет…»
И она ответила мне:
«Хулио Кортазарос совсем не кончал с собой. Он умер в припадке эпилепсии, когда он, да и все мы, покатывались от хохота. Я неделю готовилась к этому дню своего рождения, мне исполнялось тридцать. Упрашивала его прийти. В семье Хулио был массовиком-затейником и показывал нам свою ученицу из Израиля, у которой не работала одна сторона лица, как она насилует пианино, все ее ужимки и гримасы», — сказала и стала двигать руками и пальцами, а потом еще как-то неуклюже кланяться. Им потребовалось время, чтобы понять, что сам он уже давно перестал подражать той израильтянке, и сейчас это происходит с ним на самом деле, но тогда он уже проглотил язык, сказала она, и продемонстрировала как, и все попытки вернуть ему жизнь оказались напрасными.
— В самом деле? — выдавила я из себя.
— Да, — сказала она. — Извините, у меня куча работы.
Она закрыла дверь, а через три или четыре секунды ее сознание соединило распоротые края, и она снова широко распахнула дверь — слезы переполняют слезные каналы и протекают на щеки, а потом ее взгляд наполняется ненавистью — она размахнулась и влепила мне пощечину.
— Это та сторона, которая болит, правильно? — спросила она.
— Нет, — ответила я, — вы просчитались.
Она захлопнула дверь, и оттуда до меня донеслись ее стенания по братику… Поскольку я не была подходящей кандидатурой для проведения воспитательных работ по подъему нравственности, я оттуда просто смылась.
С рисом не спорят
Приснилось мне ночью, что с рисом не спорят. Приснилось, что я убегаю из дому в киббуц Бейт А-Шитта[1], убегаю, ловлю тремп, неизвестно как попадаю в некую зеленую местность, и это и есть киббуц Бейт А-Шитта. Взволнованная, стою на берегу каких-то широких зеленых поверхностей, ступаю ногой на это поле, а это всё вода, потому что, — говорю я себе, — это рисовая плантация, а с рисом не спорят.
Я убежала из дому — так я видела это во сне — к рисовым плантациям киббуца Бейт А-Шитта. Никогда в жизни не была я в киббуце Бейт А-Шитта, но мне снилось, что я попадаю в киббуц через его рисовые поля, а с рисом не спорят.
Во сне я хотела стать членом киббуца Бейт А-Шитта, несмотря на то, что у меня нет ни малейшего понятия, что это такое, и что я не очень-то знаю, где это. Но мне все же хотелось.
Я в киббуце Бейт А-Шитта, рисовые плантации окружают киббуц, а рис, он зеленый, то есть, трава, из которой добывают рис, зеленая, и мы не в Китае, мы в киббуце Бейт А-Шитта, и я не знаю, где это. Знаю только, что с рисом не спорят, это дано априори, и обсуждению не подлежит. Я в киббуце Бейт А-Шитта, ищу одного человека, киббуцника, который более десяти лет назад отрекомендовался и рекомендация выглядела следующим образом: улица, день, автомобиль.
Киббуцник: — Переспи со мной, после всего — почему бы и нет.
Я: — Нет, нет, в самом деле, не стоит.
До сих пор мне неясно, почему я отказалась, и поэтому я направилась прояснять и завершать свои дела в Бейт А-Шитта, несмотря на то, что он вообще не оттуда. Но во сне, как говорят психологи, дела свои завершают.
Я шагаю по киббуцу Бейт А-Шитта, прихожу к бассейну, и в сущности, меня очень тянет к этому киббуцнику, и вовсе не за тем, чтоб переспать, но из-за визы. Я думаю, что если я пересплю с ним, он раздобудет мне визу в Бейт А-Шитта, и я смогу позвонить домой, с визой в кармане, и сказать мужу, чтобы он приезжал вместе с двумя нашими детьми, у меня есть виза в Бейт А-Шитта, и здесь не нужно готовить.
Я хотела добыть визу в Бейт А-Шитта, потому что не хотела так каторжно работать на кухне — диктатура риса, в киббуце знают, что с рисом не спорят, а кто-то другой готовит его.
Я в бассейне киббуца Бейт А-Шитта. Рисовые поля сверкают на солнце, я хочу быть киббуцницей, чтобы этот благословенный бассейн был доступен мне. Я жду интервью, вообще я не спала с этим «отпоровшимся» киббуцником, не отпарывала его от его семьи, у него есть дети, и я его не отпарывала, и не пыталась, и мне не удалось. А вот интервью мне все-таки удалось добиться. Они подумали, что я из другой страны, и устроили мне интервью. Я сказала: «Да». Они сказали: «Ага, так ты отсюда?» «Да, но это неважно».
Я стою в комнате, залитой светом, напротив меня — вопрошающая, которая, вообще-то, две недели назад продала мне платье за 82 шекеля. Послушай, я хочу быть членом киббуца Бейт А-Шитта, это так определенно, расчислено, и, кроме того, я социалистка, очень-очень, хотя и уклоняюсь от людского общества (нехватка веры в себя?).
Совершенно естественно, что интервьюерша спросила меня, чем я занимаюсь.
Снова мне было не очень приятно признаваться, что я живу на бумаге, но я произнесла то слово, которое всегда представляется мне как большая тайна. Мне трудно поверить, что существует такая вещь, как живой писатель, поэтому всегда мне кажется, что я вру или умерла.
Но я сплю и вижу сны. Мне снится, что я в Бейт А-Шитта, рядом с этой любознательной, и она симпатичная, какая она симпатичная!
В этом месте воцарилась тишина, смысл которой мне известен. Ее смысл: я писательница особого рода. Что они могут поиметь от меня в киббуце Бейт А-Шитта, особенно учитывая то, что я не родилась киббуцницей. Она спросила меня, какие книги я написала, и я снова почувствовала все то же неудобство, неудобство врунишки.
Но я бросила парочку названий. Она была знакома с одной из книг, во сне это была последняя из написанных мною книг. Я говорю себе: — Долли Сити[2], если это то, что может всунуть меня в Бейт А-Шитта, и способствовать тому, что я, наконец, оставлю позади себя этот город, город дельцов и предпринимателей, в котором я родилась, — тогда я обещаю не спорить с рисом. Ну, безусловно, разумеется, я знаю, что это запрещено.