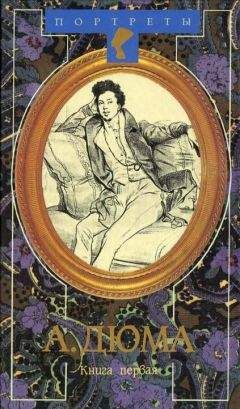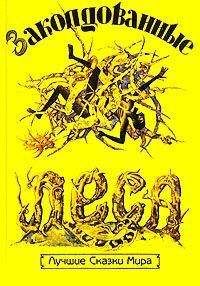Орли Кастель-Блюм - Рассказы
Врач объяснил им, что ничего другого не оставалось, и позвал одного из родственников пройти в ординаторскую, чтоб получить там более точные разъяснения по поводу этой выдающейся операции. Он объяснил, что если вдувать ей воздух в горло, туда, где находятся голосовые связки, рука ее начинает работать, и вагина выделяет золотистую жидкость, которая отнюдь не пахнет розами. Близкий родственник спросил, зачем нужно дуть, и вообще, что это все значит, и врач сказал, что без этого вдувания, кровяные сосуды в области главной артерии закупорятся, и писательница умрет. Дутье запускает процессы, которые борются с закупориванием. Нужно только вставить ручку между пальцами, можно даже, если не хотим, обойтись без листа бумаги под рукой, — и рассказы будут написаны.
Потрясенный родственник вышел из ординаторской, направился к поджидавшим его и изготовившимся к действию членам семьи, и поведал им о тех абсурдных вещах, которые услышал. Он добавил, что не нужно даже подкладывать снизу лист бумаги — рассказы будут писаться в воздухе. Близкие родственники сначала сказали, что какая разница, главное заполучить обратно их дражайшую, но довольно скоро большинство вернулось к своим делам на родине-матери, на восточных склонах горы Кармель. Только горсточка родственников осталась стоять рядом с телом писательницы, и никто из них не осмеливался дуть, в первые дни это делали замечательные врачи Хьюстона, штат Техас.
До конца месяца все вернулись на родину, кроме одного дядюшки, который когда-то любил ее. Он остался один в комнате и не знал: дуть иль не дуть? Он захотел узнать, работает ли этот механизм, приблизился к ней и позвал ее, она не прореагировала — из-за трубки, — и он подул ей в горло, туда, где голосовые связки. По прошествии семи — десяти секунд ее рука заработала в воздухе и вагина выделила золотистую жидкость. Дядюшка подложил ей под руку листы бумаги и снова дунул. К своему удивлению он увидел, что она пишет какие-то непонятные слова, и все время ее постель наполняется золотистой жидкостью. Он не знал, что уже и думать, и что с этим делать, и вышел позвонить кому-нибудь из родственников на далекой родине рассказать об этом писательско-медицинском чуде. А когда вернулся, неся пишущую машинку с ивритским шрифтом, которую он раздобыл у одного старослужащего израильского эмигранта, обнаружил, что писательница умерла, и все простынки перепачканы этим рассказом.
Госпожа Пол Лица
Теперь, когда я уже довольно долго прожила в этой славной вилле неподалеку от Панама Сити, все видится мне по-другому. Каким-то более мелким, более текучим, переменчивым, не больно важным, а иногда даже просто мизерным. Такое положение дел меня вполне устраивает, иногда лишь я еще теряюсь и шарахаюсь без всякой видимой причины, будто посреди пустыни вдруг кто-то коснулся моего плеча.
Я просила, чтобы меня послали в Панаму, хоть мне и говорили, что для меня это уж слишком захолустье. Действительно, модернизировать советское оружие на хлопчатобумажном комбинате — дело довольно скучное, но я видела эту страну, пусть совсем постороннюю для меня, и, тем не менее, почти такую же длинную и узкую как Израиль, только немного более изогнутую. И я однозначно ее выбрала.
После рекогносцировки на местности, которая длилась пару дней, абсолютно ясным стало, что никто на этом латинском краю света не узнаёт во мне полковника такую-то, лицо которой однажды смертельно побелело, когда она, будучи пребывая на военном предприятии, неосмотрительно флиртовала с неким претендентом в весьма опасной близости от запретных кнопок. И некоторые из них таки оказались нажаты, что привело к «катастрофе».
Никто, из обретавшихся в том мире, куда я нынче помещена, слыхом не слыхивал об этой катастрофе, а если до него что-либо и донеслось, то его заинтересованность в этом стремилась к нулю, что вполне меня устраивало.
Панамцам до меня нет никакого дела, и в этом большое утешение. Для них я никто, и я их очень ценю за это.
Иногда, в первые дни, мне то и дело просто хотелось завопить «Да здравствует Панама!» — до такой степени мне стали дороги ее граждане.
И, тем не менее, всякий раз, когда я по случаю табельных дат и небольших возлияний появлялась в Израильском посольстве, мне все еще приходилось сталкиваться со своим прошлым, то есть пятном в нем. И я снова и снова напоминала себе, откуда я пришла сюда, и всегда надеялась, что, несмотря на это окаянное пятно в моей биографии, найду хотя бы одну душу, которая добрым словом помянет сделанное мной для оборонки. До того. А ведь таки сделала! Другие подгребли мою славу.
Всякий раз я заново разочаровывалась и сердилась на себя, что притащилась на сходку, будь то Рош-а-Шана, или День Независимости. Эти чинные посиделки, на которых каждый недоумок может спросить меня, как делишки, и как я справляюсь с «этим», или вообще не заговаривать со мной на эту тему, будто я не чувствую, что его просто распирает, и еще минута — и вопросы прямой наводкой полетят в мое сознание.
Нынешняя моя должность на фабрике по производству ваты, в самом деле, несколько убогая и порой мне кажется, что всякий раз, когда я там оказываюсь, я практикуюсь в выживании. И что же я говорю себе? Я говорю, что приехала сюда именно затем, чтоб довольствоваться этой скучной заводской рутиной.
Люди ничтоже сумняшеся полагают, что тому, кто стал причиной катастрофы, недостаточно мук его совести, и они его добивают. В Комитете по расследованию причин происшедшего я была унижена так, как никогда в жизни. Мне задавали интимные вопросы, хотели восстановить событие… Вы меня понимаете? Израильская журналистика убила мою репутацию. Они поместили мою фотографию на первую страницу и написали: «Та, что не смогла удержаться!» Оба моих сына покинули страну. Один уехал в Мельбурн, другой в Сидней.
Но что все это в сравнении с семьями погибших. Эти выдвигали свои идеи везде, где только можно. Нашлись и такие, которые требовали для меня смертной казни. И не только кричали об этом на похоронах — на похоронах можно, но и по прошествии месяцев. Преследовали меня, где б я ни оказалась.
Лица осведомленные писали обо мне, что я опозорила военную промышленность и подставила под насмешки и издевательства ее цели. И меня навеки устранили из промышленности…
В кратеньком письме о моем смещении говорилось, что это не была ошибка вообще свойственная человеку по природе его, нет, это была ошибка женщины.
Но и после увольнения меня продолжали донимать влиятельные журналисты, разные феминистки, страстно желавшие выступить на мою защиту, семьи погибших, разумеется, и просто любопытные, которые так и мелькают в уличной толпе, и ласковое «сволочь» крутится у них на устах как пропеллер.
Я меняла номера телефона, меняла квартиры, притворялась, изменялась, скиталась — меня не оставляли в покое.
И тогда я пошла к одному своему знакомому, который был когда-то заместителем начальника Генштаба, и с которым мы были знакомы уже лет сто — с тех пор, как вместе служили срочную службу. Вместе мы немало покуролесили на его джипе в песках Аль Ариша. Чуть позже у нас с ним был роман. Вот так я и пришла к нему, посредине его жизни… Но какая же это была жизнь! Сколько было в ней внезапных поворотов! Кто-то о нем уже собирался написать книгу. Он сам говорил мне как-то, что прежде, чем разрешить публикацию, он должен видеть корректуру, там имеется немало тонких мест.
Я пришла и сказала ему: «Ты помнишь наш роман? Ты помнишь то чувство полета, которое было у нас, когда ты мчался по дюнам со скоростью, рекордной даже для твоего джипа? Ты помнишь, как все внутри переворачивалось? А как мы хохотали, когда застали начальника лагеря, примеряющим лифчик санитарки в больничке? И он, красный как рак, говорил нам: „А что, нельзя? Пурим на дворе!“ Пожалуйста, ради всего этого, пошли меня подальше!»
И он усмехнулся и сказал: «Еще дальше, чем Патриот, который ты послала в Кантри Клаб в Рамат-а-Шароне?»
Я сказала ему: «Очень смешно!», но ничто не дрогнуло у меня на лице. Я несколько раз тренировалась дома на случай, если меня начнут спрашивать, знаю ли я, сколько семей погубила.
Но потом серьезно сказал, что проверит, потому что действительно жаль, что человечество потеряет такой талант как я, несмотря на то, что положение мое имеет необратимый вид.
Был суд. Какой суд! Какой приговор! Разжаловали до рядового, отсидела три года, а потом, после года такой жизни, я снова обратилась к бывшему начальнику штаба, и он через неделю ответил мне, что выудил для меня три должности, и чтоб я выбирала. Я выбрала. Панаму.
Почему я все это пишу? Чтобы обелить себя? Я не настолько амбициозна, чтобы проводить остаток своих дней в занятиях дезинфекцией и отбеливанием, серьезных и разрушительных как никогда. Кроме того, ведь мое имя, которое до происшедшего в бассейне, опережало меня в определенных кругах, столь попрано. Оно уничтожено.