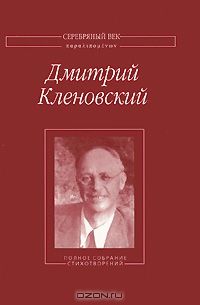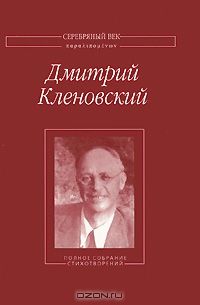Евгений Лукин - Чёртова сова
А. П.
Зачем, скажи, крамольну оду
слагал ты, дерзостный юнец?
Ну получили мы свободу —
и осознали наконец,
что только будучи рабами
творили славные дела…
И ловим праздными губами
утраченные удила.
Было чувство пустоты,
были разные мытарства,
но зато, казалось, ты
чем-то лучше государства.
А теперь твердишь одно,
пониманьем убиваем:
«Мы не хуже, чем оно,
обуваем, убиваем…»
Чёрт становится богом, а чёт превращается в нечет.
Говорили: «оазиc», теперь говорят: «солончак».
Или вот саранча... Hу всю жизнь полагал, что кузнечик!
А при виде кузнечика злобно цедил: «Саранча...»
Тут и раньше непросто жилось, а сейчас-то, сейчас-то!..
Ты к нему – с кочергой, а тебе говорят: «Со свечой!»
Бизнесмены! Родные! Кузнечики нашего счастья!
Это ж я по незнанию вас называл саранчой...
Как вышибают клин? Путём иного клина.
А руку моют чем? Как правило, рукой.
Когда во всех полках исчезла дисциплина,
в святых церквах процвел порядок – и какой!
Вы думаете, зря вощёные полы там?
Вы думаете, зря поются тропари?
Плох тот митрополит, что не был замполитом!
И плох тот замполит, что не митрополит!
Ты меня сегодня выпер,
ты со мной не выпил старки,
ты, видать, свихнулся, опер,
по причине перестройки!
Я писал тебе о каждом,
я строчил направо слева.
Hочь висела за окошком,
черно-сизая, как слива.
Если кто-то грустен, опер,
и тоска в бровях заляжет
(ты ж меня сегодня выпер!) —
кто тебе его заложит?!
Размагнитились магниты
(ты со мной не выпил старки!) —
прибежишь еще ко мне ты
сразу после перестройки!
Вероятно, провал
в головёнке у него —
говорит: не предавал
никогда и никого!
А «телеги» в обком,
подписавши «Краевед»,
кто катил прямиком?
Ну а я уже в ответ…
Ишь цветёт! Анемон!
Хоть бы капельку стыда!
Это я, а не он,
никого и никогда!
Эгоиста эгоист
обвиняет в эгоизме,
обвиняет в карьеризме
карьериста карьерист,
педераста педераст
обзывает педерастом,
и цепляется к блохастым
кто воистину блохаст,
лилипута лилипут
обвиняет в лилипутстве,
обвиняет в проститутстве
проститута проститут,
а который никого
никогда не обвиняет —
пусть отсюдова линяет!
Чтобы не было его!
Разъединственный раз
ты бы рявкнул: «Вы что там горланите?!» —
и велением масс
очутился бы в нашем парламенте.
В напряженные лбы
ты такую речугу им выдал бы,
что хоть на зуб долби,
хоть на мраморе полностью выдолби.
Твой невыспренний слог
изощрила бы правда-скиталица.
Ты бы все это смог...
Hо не сможешь – язык заплетается.
...Мы из глыбы слепой
обязательно памятник вытешем —
всем, ушедшим в запой
и ни разу оттуда не вышедшим!
Сограждане! Родимые! Вылазьте!
Мечта воплощена:
одни кругом обломки самовластья —
и наши имена!
У меня и у державы
отношения шершавы,
как наждак или броня.
Рву бородушку скуржаву —
так обидно за державу!
А державе – за меня.
От обиды яснооки,
шлём взаимные упрёки,
как снаряды на Кабул:
кто из нас кого пьянее,
кто из нас кого дурнее,
кто из нас кого обул…
Ответьте мне, уроду,
зачем я отдаю
Россию за свободу,
причем не за свою?
Потом переживаю:
да как же это я?
Свобода-то – чужая.
Россия-то – своя.
История, достойная Рабле:
бросались крысы в водяную муть.
И столько было их на корабле,
что он внезапно перестал тонуть.
Вокруг меня мильён крысиных морд,
и в зеркале такой же мизерабль.
Вот хлынем мы однажды через борт —
тогда, глядишь, и выплывет корабль.
Рынок? Вера? Ни хрена!
Только грозная година
соберёт нас воедино,
как в былые времена.
И, бедою сплочены,
от Европы до Китаю…
Я тебе попричитаю
«Лишь бы не было войны»!
Дорогие мои привереды,
золотые мои правдолюбцы,
дай вам Бог не дожить до победы
долгожданных своих революций!
Лучше вёрсты сибирского тракта,
приговор, пронимающий дрожью,
чем увидеть, как горькая правда,
побеждая, становится ложью.
В упоении правоты,
коль прикажет Россия-Мать,
буду вспарывать животы,
и стрелять, и хребты ломать.
И без разницы: поп-распоп,
инородец или дебил —
буду всех выводить в расход,
кто не слишком ее любил.
Покажите идиота,
чтобы на Руси
ради лжи убил кого-то —
Боже упаси!
Ну и мы, конечно, рады,
что под крик «держи!»
нас убьют во имя правды —
не во имя лжи.
Если Русь вам дорога
от природы,
не пускайте дурака
в патриоты!
Когда глядим на гусеничный строй
из окон сотрясаемых квартир,
пугающе загадочен герой,
зато вполне понятен дезертир.
Суровым размышленьям предана,
куда послать, на что употребить,
гори ты синим пламенем, страна!
Мне проще быть убитым, чем убить.
Кто-то лупит в амбразуру
по небритому брюнету.
Но зато возьмём цензуру —
ведь теперь цензуры нету!
Груды книжного товара
громоздятся офигенно.
Ты достоин гонорара.
И достоин гексогена.
Расстреляю чеченца.
Чеченец отрежет мне голову.
Будет внукам о чём вспоминать.
– Ой, не верь чеченцу!
Именем Аллаха
он тебе кинжалом
голову отрежет!
– Опасайся русских!
Помолясь во храме,
приползут на танках
и тебя зачистят!
– А ведь было время…
– Замолчи, безумец!
Мы тогда с тобою
были бездуховны!
Возвращайся к мирной жизни, чечен.
Шашка требует надёжных ножон.
Был ты с нами воевать обречен,
а теперича ты нам не нужон.
Отдыхай. У нас другой супостат,
о котором и мечтать не моги!
Всё Отечество замрёт на постах,
а шагнёт – так только с левой ноги.
Но не зря тебя мы брали в рожны,
разметав непротивленцев-зануд,
ибо, кореш, без войны да вражды
позабудешь, как Отчизну зовут!
Будь лоялен. Ремонтируй трамвай.
В амбразуры забивай пенопласт.
Только больше ничего не взрывай!
Да тебе уже никто и не даст.
1Гляжу от злобы костяной
на то, что пройдено.
Пока я лаялся с женой,
погибла Родина.
Иду по городу – гляжу:
окопы веером.
Hу я ей, твари, покажу
сегодня вечером!
2Мне с беседою к Сократу
подойти б!
Пусть не ровня я собрату,
мелкий тип.
Но супруга-то у типа —
а, Сократ? —
Хлеще, чем твоя Ксантиппа,
во сто крат.
3Жена родная визави,
страна родная.
И обе требуют любви,
меня шмоная.
Мне говорят: «Терпи, дедусь!
Молчи, не сетуй».
Но гадом буду – разведусь
не с той, так с этой.
Оскорбил, говорите, Великую Русь?
Поцелуйте замочную прорезь!
Я с Отечеством как-нибудь сам разберусь —
помирюсь еще с ним и поссорюсь.
И в том, что сломалась мотыга.
и в том, что распалась телега,
и что на печи – холодрыга,
а двор не видать из-под снега,
виновны варяги, Расстрига,
хазары, наплыв печенега,
татаро-монгольское иго,
татаро-монгольское эго...
В суровом достопамятном году
удил я рыбу на кронштадтском льду.
Всю леску перепутали, поганцы!
До сей поры мормышку не найду!
Ах, страна моя страдалица,
где извечны повторения,
где ещё при Святославиче
намечали светлый путь,
где вовеки не состарится
ни одно стихотворение,
ибо ты, богов меняючи,
не меняешься ничуть…
Не позволяй эмоциям
разделаться с умом —
пойми, что подлый социум
сидит в тебе самом.
Бранится по-мужичьему,
до крайности сердит.
Охрану увеличь ему —
и пусть себе сидит.
Ах ты, летопись-книга!
Что ни век – то напасть:
не татарское иго —
так советская власть!
Всяк охоч да умеюч
кинуть в небушко клич:
не Степан Тимофеич —
так Владимир Ильич...
О величии идей
говорить пока не будем.
Просто жалко мне людей,
что попали в лапы к людям.
Как-нибудь в конце концов
мы сведем концы с концами.
А пока что жаль отцов
арестованных отцами.
Покривив печально рот,
так и ходишь криворотым:
мол, хороший был народ,
уничтоженный народом.
Допустим, брошу. Белая горячка
дня через два признает пораженье.
Из нежно промываемых извилин
уйдут кошмары скорбной чередой:
пальба из танков, Горби, перестройка,
культ личности, Октябрьское восстанье,
потом – отмена крепостного права
и, может быть, Крещение Руси...
Hо тут заголосит дверной звонок.
Открою. И, сердито сдвинув брови,
войдут четыре человека в штатском,
захлопнут дверь, отрежут телефон
и скажут: «Зверь! Ты о других подумал?
Hу хоть о нас – плодах твоей горячки!» —
и, с дребезгом поставив ящик водки,
достанут чисто вымытый стакан.
Полистаешь наугад —
всё расстрелы да застенки.
От Памира до Карпат
нет невыщербленной стенки.
Вот и думается мне:
до чего же я ничтожен,
если в этакой стране
до сих пор не уничтожен?
Покончим с прошлым, господа, —
и православною державой,
перекрестясь, пойдем туда,
куда глядит орёл двуглавый!
1Сам и праздную, и тризную,
только в церковь не иду —
по диагнозу с Отчизною
всё никак не совпаду.
2Привычная пайка больничной баланды,
со шприцами хмурые мордоворотины —
и всё понапрасну: отдельные банды
никак не сольются в понятие Родины.
3Милый мой, действительность не лечится —
это установлено давно.
Данный бред зовется «человечество» —
и другого, знаешь, не дано.
Обезумевши слегка,
я похож на кулака
тем, что в общее безумье
мне не хочется пока.
Смешной чудак под своды крипт
проникнет, мифом очарован,
и расшифрует манускрипт,
который не был зашифрован.
Но ты, страницы вороша,
не зубоскаль подобно Плавту:
когда ошибка хороша,
она вполне сойдёт за правду.
Так кладовщик былых времён,
зарплату от жены таящий,
был не взаправдашний шпион,
но отсидел как настоящий.
Изучая тору или сутру,
тратишь уйму лишнего труда.
Логика – кратчайший путь к абсурду.
Экономьте время, господа!
Как мне вытравить хотелось
за чертой черту:
робость, глупость, мягкотелость —
словом, доброту!
Я бы стал в юдоли оной
прочим не чета:
умный, смелый, непреклонный —
словом, сволота.
Доктора толкуют неспроста, вишь,
что у нас под черепом ни зги:
умный мозг работать не заставишь —
мыслят только глупые мозги.
Он, по-моему, с юмором, Тот,
Чьи пути неизменно таинственны, —
каждый раз, добираясь до истины,
я в конце нахожу анекдот!
Что ты сделал, Адам! Ты зачем откусил от плода?
Ну-ка выплюнь немедленно… Всё. Проглотил, дурачок.
И прошла от желудка по телу волной теплота.
И ужалила правда огромный от страха зрачок.
Вспоминаешь теперь, как ты утром ломал деревца?
Как вчера изобидел супругу, банан отобрав?
Откусил от плода? Посмотри на себя, стервеца!
Ах, не знал, что неправ? Но теперь-то узнал, что неправ!
Думал, сладко Богам? Совесть – тяжкое бремя, Адам.
А ведь жил без греха, без оглядки, что твой гамадрил.
Я ж тебе говорил, чтоб не смел прикасаться к плодам!
Говорил или нет? Ты не хнычь, отвечай! Говорил?
Ну так что Мне теперь? За тобою ходить по пятам?
И следить, как бы вдруг ничего на тебя не нашло?
А ступай-ка ты, знаешь, в голодные земли, Адам, —
и трудись до упаду, чтоб не было сил ни на что.
Если древние евреи
описали Иегову,
ничего не прибавляя,
не скрывая ничего,
будет правильней, ей-богу,
и, наверное, мудрее
очутиться вместо рая
в преисподней у Него.
Пуган хыкою, лыком шит,
заплутавши в добре и зле,
ненавижу всё, что кишит, —
человечество в том числе.
Разве только вот воробьи…
На излёте века
взял и ниспроверг
злого человека
добрый человек.
Из гранатомёта
шлёп его, козла!
Стало быть, добро-то
посильнее зла.
Седьмой. Починяют душ.
Шестой. Изменяет муж.
Пятый. Матерный хор.
Четвертый. Шурует вор.
Третий. Грохочет рок.
Второй. Подгорел пирог.
Первый. Рыдает альт.
Все. Долетел. Асфальт.
Мир становится с годами
не яснее, но теснее:
с тем сидел на первой парте,
с этой вовсе переспал...
Вскинешь голову – знакомы
и судья, и заседатель!
Значит, все-таки посадят.
Hе стрелять же другана...
Вот ты – в тоске и грусти,
а я – навеселе.
Ты найден был в капусте,
а я вот – в конопле.
Тащись себе, мотыжа
капустные поля,
а мне вот как-то ближе
родная конопля...
Hе всегда бывает понят
мой словесный цирк:
пошутил, что судно тонет,
а сосед – кувырк!
Вот такие парадоксы.
Массовый невроз.
Эй, верните танки в боксы!
Я же не всерьёз!
Когда ракета рвёт по вертикали
затем, чтоб гробануть бомбардировщик,
не дав ему сронить ядрёну бомбу
на некий центр, что тянется вдоль Волги
и повторяет все ее изгибы,
как мы порой ладонью повторяем
изгиб бедра любимого созданья,
которое немедля говорит:
«Hе трожь бедро, на нас уже глазеют!» —
и вы покорно прячете хваталку
в излишне тесный боковой карман,
который вдруг косым своим разрезом
напомнит вам татарских интервентов,
речушку Калку, поле Куликово
и многое другое... Hо ракета,
пока вы это пристально читали,
уже бомбардировщик гробанула,
о чем имею счастье доложить!
Мысли заплясали,
ёкнуло в груди —
чьи-то грабли сами
просят: «Укради...»
Тягостная повесть.
Пагубная страсть.
Ведь замучит совесть,
если не украсть!
Ах, упырчик!
Пара крылышек легка.
Я пупырчат,
словно борт броневика.
По коленям —
как заклепки, пузыри.
Где ты, Ленин?
Залезай – и говори!
Сквозь дыру в облаках
явно с бодуна
вся, как мы, в синяках
пялится луна.
Погуляем втроём
под собачий лай.
Уж такой тут район:
вломят – и гуляй!
В кадке лёд. Отвердела улица.
Сверху – небо чёрно-лиловое.
У штакетника зябнет курица —
одноногая, безголовая.
Хорошо ей там, в оперении,
под крыло завернувши голову:
ни молений о похмелении,
ни февральского злого олова.
У одного влиятельного дюка
была жена, известная гадюка,
и вот однажды благородный дюк
схватил кинжал, как подобает дюку,
и молча вычел данную гадюку
из общего количества гадюк.
Я вас не понимаю, комары!
Как будто в олигархах мало крови!
Летите к ним – и пейте на здоровье
во имя комариной детворы…
Я уверяю: все они воры!
Ну что ж ты, гад, вцепился мне в надбровье,
моё надбровье… И твоё надгробье!
(Я принимаю правила игры.)
Люди, люди, скажите, ктó вас
учит пхаться мешком ребристым?
Попадёшь в городской автобус —
позавидуешь декабристам.
Нет, не ссылке во глубь Сибири,
не гоненьям иного рода —
просто, знаете, страшно были
далеки они от народа.
Какого, скажите, рожна
меня спозаранку изъяли
из тёплой реальности сна
в кошмары придурошной яви!
И как мне, ей-богу, смешны
те люди, которых с рожденья
преследуют страшные сны
и радует миг пробужденья!
Однажды вынесут во двор
мою бесчувственную тушку.
И шестикрылый прокурор
определит на всю катушку.
Сведут в угрюмые места,
где соответствующий климат.
А то, что я любил Христа,
в расчёт, наверное, не примут.
Ракета, если верить интернету,
туристов на орбиту подняла.
Угрюмо размышляю с похмела:
«Отмыли всю наличную монету?
Раздели конкурентов догола?
Нам что уже, другого дела нету,
как созерцать из космоса планету
и умиляться, сколь она мала?»
На скворечьем просторечье
изъясняется ветла.
Дивны Божии дела.
То ли дело человечьи!
Догорает Междуречье.
Скоро выгорит дотла.
Куда судьба тебя ни сватай:
в Торонто или же в Тамбов —
ты вновь вернешься в город статуй,
вооружённых до зубов.
Все изваяния Гранады,
во-первых, нашим до плеча.
В руке разжатой – ни гранаты,
ни автомата, ни меча.
Скучает сердце. Глазу нужен
суровый город вдалеке,
где только Ленин безоружен —
поскольку на броневике.
Над перекрестием дорог,
гремя, безумствует пророк.
Он абы как – вдали! вблизи! —
вонзает свой слепящий лом.
Из нас любого порази —
окажется, что поделом.
Илье без разницы, в кого.
Но мне-то, мне-то каково!
Когда блистательная Волга,
надменно мышцами играя,
как древнегреческий атлет,
войдёт в овраги и надолго
отрежет дачу от сарая
и от калитки туалет —
то что тогда?..
Это март или не март?
Вымерзаю – и жестоко.
Свесил ледяной кальмар
щупальцы из водостока.
Стекленеющий мосток.
Обмороженные веси.
Заползти бы в водосток —
и обмякнуть, ножки свеся.
На дверях сменили код.
Не спасло. Звоночек – звяк!
Ладно. Здравствуй, Новый год.
Ты последний или как?
Вроде бы и пить уже невмочь,
но попробуй график поломай:
кончилась Вальпургиева ночь —
а за нею сразу Первомай!
Новое несчастье накатило,
повело себя, как Чикатило.
И кричать бессмысленно, понеже
прибегут, помогут, но не мне же!
Стебли ног отрастя в феврале,
вы не рано ль оттаяли, девушка?
Вам бы шейку закутать, да не во что!
Ой, простите, у вас «шевроле»…
Уходя на загробную пенсию,
содержи документы в горсти,
чтоб потом, одолевши ступень сию,
неприятностей не огрести.
Социализм, возвращайся немедленно
в наши места —
лучше травить анекдоты про Ленина,
чем про Христа!
Кончилась анархия,
съедена стерлядка.
Думаю: а на хер я
требовал порядка?
Вы, в разврате потонувшие,
отойдите, потому что я
не торгую звонкой лирою —
я чулками спекулирую!
Тот – ради славы, тот – в избытке мужества,
иной – в угоду звонкому грошу,
а я который год пишу от ужаса,
что больше ничего не напишу.
Не брани враля и демагога,
не кляни державный беспредел:
несть урода, аще не от Бога
нами бы со славой володел.
О Русь! Грядущего росток!
Взираю на тебя с восторгом.
Здесь Запад снюхался с Востоком
и спился с Западом Восток.
Брожу и озираюсь допоздна:
куда ни плюнь – такие все крутые,
что лучше уж нашествие Батыя,
чем собственная наша крутизна.
Я тащусь по тебе, Россия,
бездорожьем. И всё имение —
в узелочке. Но тем не менее
я тащусь по тебе, Россия!
Пущай себе киногерои
спасают киночеловечество,
а у тебя свое Отечество —
большое, грязное, сырое…
Заломаю березку у брода,
по откосу огнём полыхну.
Ты на мне отдохнула, Природа?
Дай и я на тебе отдохну!
Я бы в строгой сталинской манере
за экономический развал
всем ворам влепил по высшей мере,
ежели бы сам не воровал!
Перебирая Борек, Гришек, Вовок,
легко подумать, боже упаси,
что честных главарей преступных группировок
уже и не осталось на Руси.
Чего расселся, идиот,
глаза навыкат?
Россия дальше не идёт.
Прошу на выход!
Не доглядела
Божья благодать:
грешило тело —
а душе страдать?
Чья незримая рука
в небе лепит облака?
И старательно ведь лепит —
не иначе, на века.
Подвергнув жизнь крутому арбитражу,
но истины в итоге не изведав,
я приглашаю вас на распродажу
изобретённых мной велосипедов.
«Свобода есть осознанная необходимость».