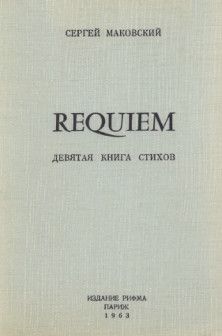Сергей Маковский - Вечер
Париж, 1940
Шарманка («На темный перрон полустанка…»)
Е.А. Жарновской
На темный перрон полустанка,
под утро — ни свет ни заря,
плетется хромая шарманка,
поет, надрывается вся.
Хоть голос у немощной звонок
и в ней человечья душа,
никто из вагона спросонок
в окошко не бросит гроша.
От века закон одинаков
на всех перепутьях земли.
И старенький вальс не доплакав,
умолкнет шарманка вдали.
Париж, 1940
Певица («В четверг под моё окно…»)
И.И. Жарновскому
В четверг под моё окно
приходит женщина петь.
Пусть ей-то уж всё равно,
да жуть на неё смотреть.
Во взоре не то вопрос,
не то, как ножом, печаль,
и грязная прядь волос
бахромкой седой — на шаль.
А песню поёт она
такую — хоть плачь навзрыд,
всю душу мою до дна
призывной тоской пронзит.
Любого греха страшней,
нельзя никому простить.
И хочется крикнуть ей:
Неправда, не может быть!
Париж, 1940
Луна («На соседнюю крышу…»)
На соседнюю крышу
я смотрю из окна,
ослепительно в крыше
отразилась луна.
Изумруды, алмазы
весь усеяли скат,
в изумрудах, в алмазах
черепицы горят.
Как безводный колодец —
этот нищенский двор,
днем все серо в колодце:
люди, камни и сор.
А сейчас! На часовню
он похож, у дверей —
как лампады в часовне
огоньки фонарей.
Ночь, угодница Бога,
лунным дымом кадит,
закоулок убогий
жемчугами кропит,
и над городом крылья
простирает окрест,
серебристые крылья
озаренных небес.
Париж, 1940
Сказка («Умчи меня, мой демон, в ту страну…»)
П.А. Плетневу
Умчи меня, мой демон, в ту страну,
где луч небес не угасает
и вечную баюкает весну,
где сонь — как явь, и явь подобна сну,
и солнце полночи сияет.
Там вольно дышит все, что никогда
не смело быть в подлунном мире.
Там каждый миг рождается звезда,
и возвращаются назад года,
и всех морей просторы шире.
Там в заросли вещун-единорог,
водой болотной плещут бесы,
там карлики лесные с ноготок,
и папоротником цветущий лог,
и в башнях пленные принцессы.
Там в океане ласковая мель,
где разговаривают волны,
и в гавани из призрачных земель
с товарами приходят и досель
Синдбада расписные челны.
Там — родина моя, волшебный град,
где мудрые владычат феи,
и за семью замками сторожат
сто рыцарей заговоренный клад,
кольцо с мизинца Дульцинеи.
Прага, 1922
Венеция
В.В. Голубеву
I. «Ленивый плёск, серебряная тишь…»
Ленивый плёск, серебряная тишь,
дома — как сны, и отражают воды
повисшие над ними переходы
и вырезы остроконечных ниш.
И кажется, что это длится годы…
Скользить луна по черепицам крыш.
И где-то песнь. И водяная мышь
шмыгнет в нору под мраморные своды.
У пристани заветной, не спеша,
в кольцо я продеваю цепь. Гондола
покачиваясь дремлет. Чуть дыша
прислушиваюсь: вот, как вздох Эола,
прошелестит издалека виола…
И в ожиданье падает душа.
II. «Всю ночь — о, бред! — в серебролунных залах…»
Всю ночь — о, бред! — в серебролунных залах
Венеции я ворожу, колдун,
и веют мглой отравленных лагун
дворцы ее в решетчатых забралах.
Всю ночь внимаю звук шагов усталых,
в колодцах улиц камни — как чугун,
и головы отрубленные лун
всплывают вдруг внизу, в пустых каналах.
Иду, шатаясь, нелюдим и дик,
упорной думой растравляю рану
и заклинаю бледную Диану,
а по стенам, подобен великану,
плащом крылатым затмевая лик,
за мною следом лунный мой двойник.
Прага, 1923
Лунный водоем
I. «Огонь потух, и пусть — оставь заботу…»
Огонь потух, и пусть — оставь заботу,
пусть лунные лучи из-за гардин
угасят лак докучливый картин
и мебели седую позолоту.
Так, день за днем — о, сколько раз, без счету! —
здесь у камина я сидел один
и, догорая, наводил камин
на одиночество мое дремоту.
Донг-донг! Часы двенадцать бьют в углу.
Смотрю сквозь сон на мертвую золу,
сквозь сон дремучему внимаю басу…
Звон, равнодушный звон к добру и злу,
что шепчешь ты полуночному часу?
Затих, умолк… Я вышел на террасу.
II. «Сияла ночь, тонул увядший сад…»
Сияла ночь, тонул увядший сад
в мерцающих прозрачноструйных дымах,
эллизиум аллей неисчислимых
просвечивал сквозь кружево аркад.
Я долго шел вдоль стриженых оград,
тревожа сон цветов моих любимых…
Вот и бассейн: на водах недвижимых
застыли лебеди у балюстрад.
Как в зеркале, садовая руина
и буксы четко отразились в нем,
шиповником заросшая куртина,
скамья и статуи богинь кругом.
Из пасти у чугунного дельфина
струя, искрясь, бежала в водоёмы
III. «Я наклонил лицо над водоёмом…»
Я наклонил лицо над водоёмом,
в мои глаза взглянула глубина
прохладных вод. Огромная луна
плыла внизу на небе незнакомом.
О, как влекла зеркальная страна
в немую глубь, к незнаемым истомам,
туда, туда, где отдаваясь дрёмам,
волшебствовала фея Тишина.
И по тропам ее державы фейной
я уходил из сумрака аллей,
прислушиваясь к ней благоговейно,
и все таинственней сливались с ней
струи журчащие и мгла теней
и блеск луны на мраморе бассейна…
Прага, 1922
Призраки («Бойся призраков — не тех, не тех…»)
З. Н. Гиппиус
Бойся призраков — не тех, не тех
блудных духов преисподней,
искупающих великий грех
в вечности Господней.
Берегись других теней, теней
из страны когда-то милой,
сердцу, не забывшему о ней,
тени скажут: было.
В час раскаянной тоски, тоски
суженой тебе судьбою,
двинутся туманные полки,
уведут с собою.
В омуты свои — назад, назад
путь душе они укажут,
мертвою водою окропят,
саванами свяжут.
Бойся памяти больной, больной
грусти о давно любимом,
о любви развеянной давно
на могилах — дымом.
Париж, 1926
Отчий дом («Я вернулся в отчий дом…»)
Я вернулся в отчий дом,
о минувшем не жалея, —
стынет под косым дождем
вырубленная аллея.
Жду, переступив порог:
не узнать сеней знакомых,
продырявлен потолок,
пахнет завалью в хоромах.
В комнату к себе, скорей!
Жалко скрипнули ступени,
притаилась у дверей
жуть постылых привидений.
Точно пугала, кресты
труб чугунных — в окна с крыши.
Никого! Из пустоты
писк голодной мыши.
Париж, 1938
Тень («Ты приходишь усталой тенью…»)
Ты приходишь усталой тенью,
посылает тебя могила,
отдана моему томленью,
Застываешь в дверях уныло.
Ты бледнее теперь намного,
и в глазах — синева тумана,
у пробора над бровью строгой
запеклась небольшая рана.
Ничего у меня не просишь,
за вину не грозишь расплатой,
только холод с собой приносишь,
как дыханье страны заклятой.
Только душу мою глубоко
проникаешь пустынным взором, —
безнадежностью веешь рока,
леденишь неземным укором.
Я поверить хочу в прощенье,
Отче Наш бормочу святое,
я не верю завету мщенья,
вспоминая тебя живою.
Но ты связана вышней силой,
не вольна преступить запрета:
возвращенная мне могилой,
уходишь, не дав ответа.
Париж, 1940