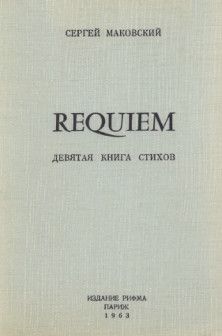Сергей Маковский - Вечер
Прага, 1922
Сон («В горах скалистых, по земле…»)
Памяти Максимилиана Волошина
В горах скалистых, по земле
песчаной, солнцем обожженной,
бреду я в предрассветной мгле и
вдруг, высоко на скале,
остановился, пораженный.
Безлюдна древняя земля,
к пустынным далям кругозора
плывут кремнистые поля.
Как острова из хрусталя,
в тумане горные озёра.
И разгорается восток,
светлеет небо понемногу,
ложатся тени на песок.
Над розовым холмом — дымок,
алтарь неведомому Богу.
Париж, 1930
«Дремлют древние развалины…»
Дремлют древние развалины,
плющ повис над крутизной.
Мысли небом опечалены,
тишиной и глубиной.
Облаков пещеры дальние
отражаются волной,
дышать омуты зеркальные
надо мной и подо мной.
А в душе — виденье тайное,
небо вечности иной,
снится ей необычайное —
сон земной и неземной.
Прага, 1922
Отражения («О, мир двоящийся, волшебство отражений…»)
Графу П.А. Бобринскому
О, мир двоящийся, волшебство отражений,
вечерней памяти благословенный яд,
час невозвратности и вечных возвращений,
в воде зарей небес пылающий закат!
Две глуби сонные… Какой из них поверим?
Где загорался луч непризрачной звезды?
Лазурь всевышнюю озёрный манить терем,
подводные леса — как райские сады.
И ближе, ближе ночь. Гореть заря устанет,
растают в сумраке туманные холмы,
и дымный Серафим с мечом на страже станет
непостижимости, молчания и тьмы…
Париж, 1938
Капитель («Как тело у девушки розов…»)
Как тело у девушки розов
обласканный солнцем парос.
Разбрелось по тропам откосов
белорунное племя коз.
Колонны обломок забытый,
свирели воркующий звук.
Когда-то алтарь Афродиты,
сегодня — пастуший луг.
Фиолетовый дождь глициний
застыл над грудой камней,
на листьях аканфа — синий,
колючий узор теней.
Да ящерица на припёке
прошмыгнет и забьется в щель,
Как вздох о богине далекой —
коринфская капитель.
Прага, 1923
LACRIMAE RERUM («Покинут старый дом, забыт…»)
Памяти князя Сергея Волконского
Покинут старый дом, забыт
отломок времени и славы.
Герб над решеткой величавый
разросшимся плющом обвит.
Лепной потрескался карниз
и наглухо забиты ставни,
и веет былью стародавней
осиротелый кипарис.
В аллеях смутно, как во сне,
иду по грудам бурелома
и на скамье у водоема
прислушиваюсь к тишине.
Заглох давно лесной родник,
его струей плескавший мерно,
прямоугольная цистерна —
в сетях у цепких повилик.
Сухие прутья и стручки
устлали обнищалый мрамор,
запаутиненных карамор
в углах — пушистые пучки.
И тут же, брошенный в кустах
садовой клумбы разоренной, —
обрубок статуи: замшенный,
изглоданный дождями Вакх.
Зияют впадины глазниц
и скулы язвами изрыты,
весь почернел кумир забытый,
добыча прели и мокриц.
Но меж кудрей еще цела
тугая гроздка винограда,
и хмель таинственной Эллады
в припухлой нежности чела.
Как не узнать тебя, Жених,
веселий грозных предводитель,
хоть брошена твоя обитель
и нет вокруг менад твоих!
О, вещий тлен! Печаль хвощей,
струящихся из чаши Вакха,
журчанье Леты, слезы праха,
слепая жалоба вещей…
В аллеях — призрак каждый куст,
блуждаю долго, бесприютный,
и слушаю, как шепот смутный,
своих шагов по листьям хруст.
О, грусть! Ушедший в вечность день
и этот сон о мертвом боге,
пустынный дом и на пороге
моя скитальческая тень.
Прага, 1923
Юг («Июлем раскаленный юг…»)
В.А. Злобину
Июлем раскаленный юг,
пылающее море,
вдали — туманный полукруг
таврических предгорий,
костёр полуденных небес,
кипенье голубое,
цикады знойно-звонкий треск
и шелесты прибоя,
да чайка: вскрикнет и нырнет,
и, выгибая спины,
выплёскиваются из вод веселые дельфины.
Симеиз, 1919
Биот («Спит городок на холмике крутом…»)
А. Н. Гиппиус
Спит городок на холмике крутом,
весь — будто с заводной шкатулки.
Дерюгой пахнут, гарью и вином
ступенчатые переулки.
Над домом дом, ныряют тупики,
как западни проходы глухи,
под сводами — железные крюки
и в окнах черные старухи.
Часовня у разваленной стены
поникла в непробудной дрёме.
На перекрестке лепет тишины,
струя в чугунном водоеме.
Бежит-журчит, и брызги на чугун,
грядущий день — как день вчерашний.
И время, старенький слепой горбун,
бьет в колокол на башне.
Биот, 1928
Струя в водоеме («Я в земле родилась…»)
Я в земле родилась,
из земли поднялась,
мне родимый отец
ледяной студенец,
темной глуби верна,
я всегда холодна,
дни и ночи журчу,
тишиной бормочу.
Эта площадь вокруг —
заколдованный круг,
эти стены — как сны
от моей тишины,
за годами года
заклинает вода,
ворожит водоем
ключевым серебром.
Ни покоя, ни сна,
только звон чугуна,
ни друзья, ни враги —
только чьи-то шаги,
только чья-то рука
прикоснется слегка,
чей-то жаждущий рот
осторожно прильнет.
И бегу я, бегу,
отдохнуть не могу,
никогда не усну,
не вернусь в глубину,
упокоив мою
студеную струю.
Я в земле родилась,
из земли поднялась…
Биот, 1928
«Все в мире вечно и связано…»
Все в мире вечно и связано,
хоть смутно светить звезда.
Всему дорога указана,
только не знаем — куда.
Любовь коснется случайная,
иль чья-то жизнь позовет, —
молитва сбудется тайная,
тайна любви не прейдет.
Одно движенье небрежное, —
судьба постучит в окно,
и ты разбудил неизбежное:
все навсегда решено.
Париж, 1940
Стена («В окне моем неровная стена…»)
М.А. Форштетеру
В окне моем неровная стена
вечерним золотом озарена,
а снизу, со ступени на ступень,
по ней скользит, едва заметно, тень.
Все выше, выше к трубам дымовым,
все ближе к небу этот синий дым,
еще немного — станет он мутней,
поглотит стену и растает с ней.
И всматриваясь в медленную тень,
я чувствую, как умирает день,
как уплывает в звездные поля
усталая, вечерняя земля.
Париж, 1940
Нищий («В городском саду за рекой…»)
В городском саду за рекой,
под каштанами, день-деньской
старый нищий сидел на пне,
всякий раз попадался мне.
Всякий раз минувшей зимой,
через сад проходя домой,
десять су я совал ему
в утешительную суму.
Он был очень убог и тощ, —
на посту и в холод и в дождь,
как заморщенный серый гриб,
к придорожной траве прилип.
Всё о чём-то просил старик,
но в его слова я не вник;
что-то шамкал беззубый рот,
да понять я не мог весь год.
А недавно я мимо брёл,
никого в саду не нашёл, —
только пень торчал сиротой
над примятой слегка травой.
И с тех пор, уж не первый день,
мне мерещится этот пень,
и на сердце комом тоска.
Видно — я любил старика.
Париж, 1940