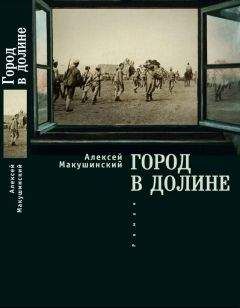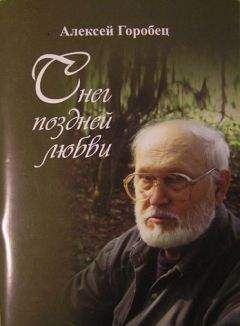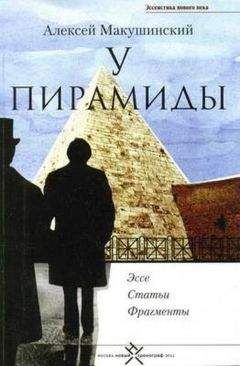Алексей Макушинский - Свет за деревьями
3
«У нее был, судя по всему…»
У нее был, судя по всему, довольно ужасный характер.
Это видно даже на фотографиях, тех немногих,
что у меня сохранились, очень блеклых,
очень любительских.
Есть совсем ранние, двадцатых годов, где она молодая,
очень красивая, с прелестным тонким лицом,
капризною складкой губ, смеющимися глазами.
В тридцатые годы рот делается трагическим,
глаза несчастными, красота остается.
Поздних карточек нет, она не давала снимать себя
не только в старости, но задолго до старости.
Я очень многое знаю, чего-то самого важного
не знаю, конечно, об ее жизни.
4
«Она курила папиросы „Север“…»
Она курила папиросы «Север» и питалась
швейцарским сыром
(пастилой, крепким чаем). Мне нравилось
держать ее за руку
с неразгибавшимся мизинцем (в который,
как она утверждала,
ее укусил скорпион, в Ташкенте, в эвакуации).
Она читала мне взрослые книги, Толстого,
но и какие-то советские повести из тогдашних журналов.
Был проход, на даче, между двумя
заборами, очень узкий, заросший крапивой.
Мы каждый день ходили к нему во время
нечастых ее приездов (с моим отцом она, в общем,
не ладила).
Там кто-то жил за этим проходом, кто-то, кто-то,
втайне от всех…
Там начиналось чудесное, которое оба мы видели.
5
«Но неужели эта жизнь…»
Но неужели эта жизнь, с единственными ее очертаниями,
проступающими как ветви на синеве
неба, когда-то, с тем самым важным в ней, чего я не знаю,
с чудесным в ней, с крапивой, облаками, заборами:
неужели эта жизнь всего лишь
какая-то? Какая-то жизнь среди прочих каких-то?
Ее единственная среди прочих единственных?
И неужели моя, вот эта,
среди прочих каких-то какая-то?
Я выхожу на улицу, полную машин и прохожих.
От прошлого ничего не осталось.
В высоких окнах отражается то же небо.
24 декабря 2003
Уже все опустело, долины,
деревни. Снег синеет на крышах,
на холмах среди сосен, под снежным
и легким небом. Никто
не едет здесь, я один.
Все подарки куплены, лавки
закрыты. Бензоколонки
закрываются тоже. По радио
говорят о вере, коммерции,
бедности и любви.
Последние птицы
летят домой, звери
попрятались, садовые гномы
убежали в лес. В темнеющем воздухе
колокола призывают ночь.
Она уже наступает сквозь замерший
мир, безразличный к ней, ждущий
ее, не та же, но, конечно, такая же
ночь, как две тысячи
три года назад.
«Ты лежал в больнице во время первого путча…»
Ты лежал в больнице во время первого путча.
Я помню, я долго ехал к тебе, меняя автобусы,
и долго шел потом вдоль белой стены из бетонных
палок, с невнятным садом в прорезях между ними.
Я сказал тебе, что, судя по всему, Софья Власьевна
умерла. Ты ответил: вот как? отрывая взгляд от чего-то,
чего я не видел. Я подумал, что ты еще далеко,
где-то там. Здесь запертый, в этой палате,
с ее чужим кашлем и неизбежными тумбочками,
в коридоре, по которому походили мы взад и вперед,
сквозь запах йода, хлора, уборной, ты, подумал я, где-то
там, в каких-то далях боли (так я подумал), где тоже
толпы, шум, движение времени, в пространствах
страданья, с его, тоже, улицами, пустырями, заборами,
круженьем, возращеньем к началу. На остановке
была девушка, посмотревшая на меня, затем быстро
вскочившая в какой-то другой, с невозможным
номером, четыреста какой-то автобус, и в городе —
то радостное, что держалось еще несколько дней,
вдруг исчезло. Теперь тебя нет. Я вижу то, что ты видел.
«Как хорошо, наверное, верить, что души…»
Как хорошо, наверное, верить, что души,
ушедшие, ушли недалеко, что они
где-то здесь, и видят нас, и видят то, что мы видим,
вот это озеро с перевернутыми холмами,
кремнистые склоны в неподвижной воде.
Мы так привыкли показывать им то, что видим.
Мы говорим, обращаясь к ним: вот,
вот, посмотрите… И вдруг вспоминаем, что они
уже не посмотрят,
и сделав свою пару снимков, идем к машине,
оставленной у обочины,
и еще раз оглядываемся, конечно. И вечером,
у моря, в сумерках, в городе,
где дома теряются за бескрайней
стоянкой с полустершимися белыми линиями,
и остатки неба отражаются в синих лужах,
удивляясь, смотрим на все это, обращенное к нам, обращаясь
по-прежнему к ним.
Потому что все это значимо, все это значит —
что-то, и только мы не знаем что именно.
И такое счастье, наверное, верить, что не мы им — они нам
показывают, вот, эти отсветы
в окнах, эту надпись В&В на углу, этих чаек
на парапете набережной, летящий флаг у входа
в гостиницу.
Здесь, вдали от всего, в чужой стране
с левосторонним движеньем
и яростными преданиями, где они никогда
не бывали, какое
счастье путешествовать вместе с ними.
«Берлинское»
И при мысли о том, что вот эта
женщина, напротив — вот эта?
с ее страшной шеей и старческими руками —
тоже спит с кем-нибудь, чувствуешь
тошноту. Поезд между тем выезжает
на свет. Безумный Берлин
встает вокруг со своими
стеклянными стройками. Ей
лет пятьдесят, она точно
спит с кем-нибудь. Она смотрит
тебе прямо в лицо, проплывая
сквозь облачный купол, новый Рейхстаг.
«Исторические события я мог наблюдать из окна…»
Исторические события я мог наблюдать из окна.
Я видел танки и демонстрации, крушенье империи.
К вечеру, когда все затихало, оранжевым блеском
отсвечивал мокрый асфальт
и появлялись внезапные звезды. Я оставил все это без
сожаленья, чтобы здесь, среди шпилей и башен
(dans la forêt de symboles) смотреть в прозрачное небо
времени, убежав от судьбы.
Никуда, ниоткуда
Слишком холодно, чтобы сказать весна
наступила. Просто время сирени. Смятенье
сирени под всклокоченным небом. Лохматые,
как дворовые псы, облака, их беззвучная
драка над нами. Свора, свара: идешь,
повторяешь. Про себя, просто так. Все вообще
просто так, ни о чем. Просто время
сирени. Просто время уходит, не глядя,
под всклокоченным небом, никуда, ниоткуда.
Две вариации на темы Филипа Ларкина
1
Здесь, в Европе
Неге is unfenced existence:
Facing the sun, untalkative, out o f reach.
Philip Larkin: НегеСверни направо и проехав сквозь очень промышленный
город с каменистой рекой и красноверхими башнями,
мимо многих бензоколонок, откровенно стеклянной
гостиницы,
автобусной остановки с нахохленными турчанками
в платках, детьми с непомерными ранцами, справа
оставив новый торговый центр, вертящиеся названия
магазинов над плоскими крышами, поверни,
еще раз, направо. Сразу
все другое; деревня; еще светофоры,
еще, конечно, рекламные
щиты; но уже сараи, уже вдруг трактор с прицепом
и бревнами
в нем; наконец, поля. Все едут прямо. В последний
раз повернув направо, ты въезжаешь во что-то огромное
и пустое. Облака над синей равниной, над дальним лесом
стоят неподвижно. Пыль над полем не движется тоже.
Дороги,
и деревья вдоль них, и тени деревьев, вычерчены
в мягком свете ясными линиями. Та главная, по которой
ты едешь, через сколько-то километров начинает
спускаться в дымчатую
долину. Здесь тоже город, но маленький и как будто
забытый здесь. Остановись в нем. Выйди
из машины на главной, торжественной, полукруглой
и совершенно пустынной площади (фасады, кариатиды,
колонна с недосягаемым ангелом). Здесь, кажется,
с Тридцатилетней
войны ничего не случалось. Здесь дни повторяют
друг друга
как заклинанье. Дома и крыши отражаются в тихой речке,
гнутый мостик отражается в ней же. Пестрые селезни,
скучные утки
проплывают сквозь отраженья. Одинокий турист
перед очень
средневековым собором стоит не понимая, куда он попал.
Никто не
понимает этого. Отовсюду видны холмы — или то, что
выглядит отсюда холмами: все та же равнина,
впускающая, как только
ты поднимешься по серпантину, тебя в свою тающую
безмерность, размах неба, огромного и пустого.
Скажи себе: здесь, в Европе… Нажимая на газ: куда еще
ехать? Край света везде. Край слова.
2