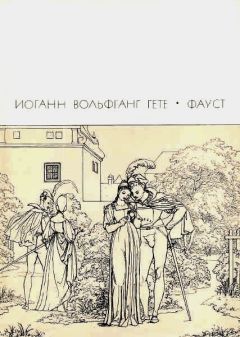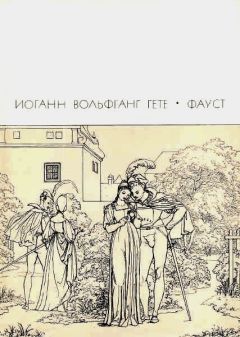Велимир Хлебников - Том 3. Поэмы 1905-1922
1909
«Передо мной варился вар…»*
Передо мной варился вар
В котле для жаренья быка.
Десять молодых чертенят
Когтями и языками усердно раздували жар,
И накалились докрасна котла бока.
Струи, когда они кипят, они звенят.
Они советовались, как заговорщики: «Вот здесь жар в углях потолки!»
Совы с криком подымались в потолки,
Кипел горящий пар и огненные рождал цветки.
Божественный повар
Готовился из меня сотворить битки.
Он за плечо меня взял, и его мышцы были здоровы.
Готовясь в пещь меня швырнуть,
Сладкоголосого в земные дни поверг в кипящую смолою глубь.
Я умолял его вернуть
К реке Сладим, текущей
Мимо с цветами и птицами кущи,
Но он ответствовал сурово:
– О, блудодей словес, ответствуй, что делал ты на трижды обвернутой моим крылом земле?
– Что делал, что знал ты?
Он трепетать меня заставил, как эста балты.
И, трепеща и коснея, в мышцах его рук себя ощущал, как камень в дубовом зажатый комле.
Я отвечал: «Моя муза больше промышляла извозом
Из запада скитальцев на восток,
И ее никто не изобличил в почтенном занятьи вора.
Впрочем, она иногда не боялась навозом
Теплым запачкать одеяния бедный цветок
Или низ платья, мимо скотного проходя двора».
Тут тощий и скаредный лик
Высунулся из-за плеча и что-то шептал,
И его длинный язык
По небу нёба прилежной птицею летал,
И он головой качал, суров.
– Ты прав, – сказал он, наконец.
О, поэт, поэт, забудь луга, коров
И друга нашего прийми венец!
Но ведь это прелесть! –
Заметил Вячеслав.
– Ив этом челюсть
Каких-то старых страшных глав.
Я заметил в этом глаз…
Не правда ли, она прекрасно улеглась
Красивостью небесных струй,
Которых ждет воздушный поцелуй?
– Да. Я тоже нахожу,–
Лениво молвил Амизук.
– Я, может быть, не так сужу,
И, может, глупость, что я скажу,
Но только мне кажется, что понравилось. Очень.
Он вдруг покраснел и был, казалось, сильно озабочен.
Другие сидели молча, не издав ни звука.
– Скажите, вы где изволили вкусить блага наук?
– Паук?
– Ах, нет… наук.
Писатель, который уже сменил надежды на одежды
Всеобщего уважения и почета,
Заслуженной пользуясь славой звездочета,
Которому не закрыты никакие двери спален,
Сидел, и томен, и печален,
Одной рукой держась за локоть,
Набитый мышьяком,
И сквозь общий хохот
Он был один, казалось, не рад обмолвке с пауком.
А впрочем, он был наедине с последними «Весами».
Младой поэт с торчащими усами,
Который в Африке
Видел изысканно пробегающих жираф к реке,
К нему подошел и делал пальцами, как пробегает по стене паук,
Тем вызывая неземных отображение на лице страдальца мук.
Писатель скорбно-печально расхохотался,
Но тот, кто в Африке скитался,
Его не покидал
И тем заставил скрыться под софу.
Меж тем, там кто-то, как Дэдал,
Перелетал на милый всем Корфу.
То видя, неземной улыбкой улыбаяся, ясница
Взирала голубыми очами.
О, кто б умел сказать, что <ей> снится
Ночами?
Поэт, поклонник жираф,
Взирал и важен, и самодоволен.
Он не любил отрав
И бегством пленника доволен.
Свой взор струит, как снисходительный указ,
Смотрящий сверху Вячеслав.
Он любит шалости проказ,
От мудрой сухости устав.
С буйством хмеля в глазах
Освобожденного от уз невольника
Кто-то всечеловеческий вплетает страх
В немного странную игру природы: треугольник,
Которого катеты, сроки и длина
Чудесно связаны с последних дней всего забвением.
Столовая немного удивлена
Внезапным среди лозы и кудрей откровением.
И укрощают буйство быстрое речей,
Но оно клокочет, как весной ручей.
Амизук прилег болванчиком
На голубом диванчике.
Он в красной рубашке,
И мысли ползают по его глазам, как по стеклу букашки.
Он удивлен речей началом,
И мысли унесены его на одиннадцатую версту,
Где лен прикреплен мочалом
К шесту.
– А вы? у вас есть что-нибудь? Вы прочтете? –
Обращаются к тому, кто все думает, все думает о богатой тете,
О, золотой презренный прах,
К сидящему на кресле в черных воротничках,–
Так что его можно было принять за араба, – о, мысли скачки,
Если б цвет предков переходил на воротнички.
– Я? Я с удовольствием. Он подымается и гордо
С осанкой важной лорда
Читает: «России нет, не стало больше,
Ее раздел рассек, как Польшу».
Или: «Среди людей мне делать нечего,
Среди зверей я буду вечером».
Или: «Куда ходил я мед пить жизни
И высокомерным быть к богам.
О, тризны, тризны
Умершим врагам».
– Очень мило, – изрекают. Блестят доверчиво глаза,
А там, скача и спотыкаясь, по ладам скачет бирюза.
– Очень мило. Вы очень удачно похитили у раешников меру.
Глаза сказавшего с лукавством устремлены на Веру
Константиновну Иванову-Шварсалон.
С окошка
Кошка
Смотрела на салон.
И бьют часы уж два.
К столу собираются гости едва,
Гостей власоноша не дозовется.
И уселись за стол, как полководцы,
Ученики военных училищ,
У них отсутствуют мечи лишь.
– Что? что? еще мальчики! Они не знают, во сколько обходится, –
Был рассержен толстяк сутулый.
И вот из божницы сходит Богородица
И становится тихо за стулом.
И когда заговорили о человеке и вере, – тогда
Ее божественные веки дрожали прелестию стыда.
Она скользнула в дверь за Ниссой,
Она спустилась по лестнице вниз и
Она сошла на далекую площадь
И, обняв, осыпала поцелуями в голову лошадь.
Так изливала Богородица свое горе,
А над ней опрокинутое сияло звездное море.
1909
Карамора № 2-ой*
Обойщик, с волчанкой
На лице, в уме обивает стены,
Где висящие турчанки
Древлянским напевам смены.
Так Лукомского сменяет Водкин.
Листопад, снежный отрок метели.
Мелькают усы и бородки.
Иные свободными казаться хотели.
Вот Брюллова. Шаловливая складка у губ.
И в общем кошка, совсем не змея.
О, кто из нас в уме (решая задачу) не был Лизогуб
При виде ея.
Мое сердце – погибающая Помпея
Кисти Брюллова,
В ваших глазах пей я
Добычу пчел лова.
О том, что есть, мы можем лишь молчать.
На то, что сказано, легла лукавая печать.
Я прав. Ведь дружно, нежно и слегка
Мы вправе брать и врать взаймы у пустяка.
Вот новая Сафо: внучка какого-то деда,
Она начинала родовое имя с «дэ», да.
Как Сафо, она, мне мнится, кого-то извела.
Как софа, она и мягка, и широка, но тоже не звала.
Сафо с утра прельщает нас,
Когда заутра всходим на Парнас.
«Куда идешь? Куда идешь?
Я – здесь, Сафо, о, молодежь!»
Софа зовет прилечь, уснуть,
Когда идти иссякла нудь.
«Куда идешь, о, нежный старче!
Меня на свете нет теплее, мягче, жарче».
Но как от вершин Парнасских я ни далек,
Я был неподвижен, как яствами наполненный кулек,
Когда, защищаемый софой,
Я видел шествующую Сафо.
Но, знать, пора уж в скуки буре
Цветку завянуть в каламбуре.
С элегией угасающей оргии
В глазах
Сидит пренебрегающий Георгием
Боец, испытанный в шахматных ходов грозах.
Он задумчиво сидит, и перед ним плывут по водам селезни.
И вдруг вскочил и среди умолкших восклицает: «их все лизни!» –
Все с изумлением взирают на его исступ,
Но он стоит, и взор его и дик, и туп.
Сидит с головою сизой и бритой, как колено верблюда,
Кто-то, чтобы удобней, быть может, узнице гарема шепнуть: «люблю? – да!»
Над лицом веселым и острым.
Он моряк, и наяды его сестры.
Здесь пробор меж волос и морщины на лбу лица печального имеют сходство с елкой,
Когда на него с холста смеется человек с черно-серой испаньолкой.
Тот в обличьи сельского учителя
Затаил, о! занятье мучителя,
Вечно веселого и забавного детки,
Жителя дубров и зеленой ветки.
Остро-сонный взгляд,
Лохматый, быстрый вид.
Глаза углят
Следы недавние обид.
Здесь из угла
Смотрит лицо мужицкого Христа,
Безумно-русских глаз игла,
Вонзаясь в нас, страшна, чиста.
В нем взор разверзнут каких-то страшных деревень,
И лица других после его – ревень.
Когда кто-то молчанием сверкал,
Входил послушник радостный зеркал,
Он сел,
Где арабчонок радостный висел.
Широко осклабляясь, он уселся радостен,
Когда черные цветки – зная о зное – его смотрела рада стен.
Молодчик, изловчась,
Пустил в дворянство грязи ком.
Ну, что же! добрый час!
Одним на свете больше шутником,
Но в нем какая-то надежда умерла,
Когда услышали ложь, как клекот меляного орла.
Спокоен, ясен и весел
За стол усаживается NN,
Он резво скачет длинными ушами,
Как некогда в пустыне Шами –
Вот издает веселый звук дороги лук, полей и сел
Взорами ушей смеющийся осел.
Кого-то в мысли оцукав,
Сидит глазами бледными лукав.
Но се! Из теста помещичьего изваянный Зевес
Не хочет свой «венок» вытаскивать из-за молчания завес.
Но тот ушами машет неприкаянно
И вытаскивает потомство Каина.
И тот, чья месть горда, надменна, высока,
В потомстве Каина не видит «ка».
Тот думает о том, кое счастливое лукошко
Лукомского холсты опрокинуло на неосторожного зеваку-прохожего.
И вдруг в его глазах – гщетно просящая о пощаде, вспыхивает, мяуча страшно, кошка,
Искажая облик лица в общем пригожего,
Тщательно застегнутого на золотые пуговицы.
Он был, как военный, строен и других выше.
Волосатое темя подобно колену.
Слабо улыбаются желтые зубы.
Смотрите! приподнялись длинные губы
И похотливо тянут гроб Верлена.
Мертвец кричит: «Ай-яй!
Я принимаю господ воров лишь в часы от первого письма до срока смерти.
Я занят смертью, господа, и мой окончен прием.
Но вы идите к соседу. Мы гостей передаем.
Дэлямюзик!»
Ему в ответ: «Друзья, валяй!
И дух в высотах кражей смерьте».
Верлен упорствует. Можно еще следовать
В очертании обуви и ее носка,
Или в искусстве обернуть шею упорством белого, как мука, куска,
Или в способе, как должна подаваться рука…
Но если кто в области, свободной исконно,
Следует, вяло и сонно, закройщика законам,–
Пусть этот закройщик и из Парижа –
В том неизменно воскресает рыжий.
Или мы нуждаемся в искусственных – веке, носе и глазе?
Тогда Россия – зрелище, благодарное для богомаза.
В ней они увидеть должны жизнь в день страшного суда,
Когда все звало: «Смерть, скорей, от мук целя, сюда, сюда!»
Бедный Верлен, поданный кошкой
На блюде ее верных искусств!
Рот, разверзавшийся для пищи, как любопытного окошко –
Ныне пуст.
Я не согласен есть весенних кошек, которые так звонко некогда кричали,
Вместо ярко-красных с белыми глазами ягнят, умиравших дрожа,
Пусть кошки и поданы на человечьем сале –
Проказят кладбищ сторожа.
Думал ли, что кошек моря, он созидает моря
И морскую болезнь для путевого?
Вот обильная почва размышлений для
Стоящего с разинутым ртом полового.
И я не хочу отрицать существования изъяна,
Когда Верлен подан кошкой вместо русского Баяна.
<конец 1909 – начало 1910>