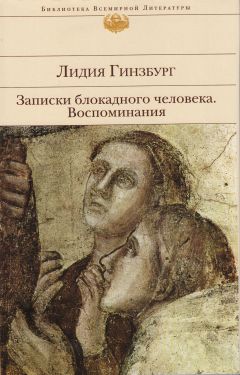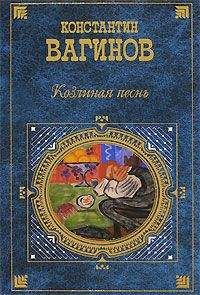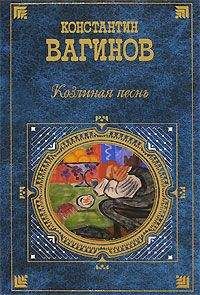Николай Олейников - Пучина страстей
— У Заболоцкого появился какой-то холод…
— Ничего, — ответил Олейников как-то особенно серьезно, — он имеет право пройти через это. Пушкин был холоден, когда писал «Бориса Годунова». Заболоцкий под влиянием «Бориса Годунова».
Определять развитие близкого Олейникову Заболоцкого должен был Пушкин, — никак не поэты XX века (кроме Хлебникова).
Социальные адресаты насмешки Олейникова скрещивались с адресатами литературными. Издевательское словоупотребление Олейникова, его образы, выпадающие из своих стилистических рядов, его искривленные языковые маски (среди них маска вульгарного эстета) — все это реализация борьбы с системой бутафорских значений, литературной «тары» для уже несуществующих ценностей. Олейников хотел окончательно забить вход в мир символизма, еще живший в своих производных. Для этого особенно пригодился галантерейный язык.
Но поэтическая система Олейникова сложна и не замкнута его масками. Олейников — настоящий поэт, и за масками мелькает, то проступая, то исчезая, лицо поэта. Речь, конечно, идет не об эмпирическом, биографическом авторе, но о литературном образе поэта — субъекте данной поэтической речи. Почему этот поэт заслоняется бурлескными личинами, почему говорит не на своем языке? Этот вопрос не решается до конца на уровне литературных пародий и социальной сатиры. Это вопрос о типе исторического сознания.
Олейников сформировался в двадцатые годы, когда существовал (наряду с другими) тип застенчивого человека, боявшегося возвышенной фразеологии, и официальной, и пережиточно-интеллигентской. Олейников был выразителем этого сознания. Люди этого склада чувствовали неадекватность больших ценностей и больших слов, не оплаченных по строгому социальному и нравственному счету. Они пользовались шуткой, иронией как защитным покровом мысли и чувства. И только из толщи шуток высвобождалось и пробивалось наружу то подлинное, что они хотели сказать о жизни. На высокое в его прямом, не контролируемом смехом выражении был наложен запрет.
Но у поэта есть свой язык, существующий наряду с языками его масок. В стихах Олейникова совершается как бы непрестанное движение от чужих голосов к голосу поэта и обратно. Поэтому язык Олейникова выворачивает наизнанку не только сознание его бурлескных персонажей, но в какой-то мере и сознание самого поэта. Он в какой-то мере берет на себя ответственность за своих героев.
Сквозь маски Олейникова просвечивало и саморазоблачение и самоутверждение поэта. Самоутверждение в не-отторгаемых от поэзии ценностях, — скрытых толщей шутки. — в лирическом и трагическом восприятии мира. Об этом уже говорили люди, хорошо знавшие Олейникова и его творчество. Николай Чуковский писал: «Чем ближе подходило дело к середине тридцатых годов, тем печальнее и трагичнее становился юмор Олейникова». И. Бахтерев и А. Разумовский пишут в статье «О Николае Олейникове»: «…За шуткой чувствуется лирическая взволнованность, душевная сила подлинного поэта»[10].
Между голосами масок и голосом поэта граница порой размыта. Серьезное, подлинное мерцает на грани смешного. Серьезное поэтому тоже как бы взято под сомнение. Порою трудно уловить, зафиксировать эти переходы.
От экстаза я болею,
Сновидения имею,
Ничего не пью, не ем
И худею вместе с тем.
Вижу смерти приближенье,
Вижу мрак со всех сторон
И предсмертное круженье
Насекомых и ворон.
Это две соседние строфы стихотворения. Первая из них — откровенная буффонада. Во второй строфе уже движение между буффонадой (постоянная у Олейникова тема насекомых) и подлинным разговором о смерти.
В стихотворении «Ольге Михайловне» среди гротескного текста возникают лирические строки, которые как будто хотят и не могут до конца освободиться от буффонады:
Так в роще куст стоит, наполненный движеньем.
В нем чижик водку пьет, забывши стыд.
В кем бабочка, закрыв глаза, поет в самозабвеньи,
И все стремится и летит.
И я хотел бы стать таким навек,
Но я не куст, а человек.
На голове моей орлы гнезда не вили,
Кукушка не предсказывала лет…
Люби меня, как все любили,
За то, что гений я, а не клеврет!
Здесь удивительное переплетение и взаимодействие разных ценностных уровней, скрещение травестированного с настоящим. Куст, «наполненный движеньем», вокруг которого «все стремится и летит», — в самом деле прекрасен. И начинает казаться, что поэт в самом деле хочет, чтобы его любили, но не смеет об этом сказать другими, нетравестированными словами.
Те же соотношения в заключительной строфе стихотворения «Служение науке»:
Зовут меня на новые великие дела
Лесной травы разнообразные тела.
В траве жуки проводят время в занимательной беседе.
Спешит кузнечик на своем велосипеде.
Запутавшись в строении цветка,
Бежит по венчику ничтожная мурашка.
Бежит… Бежит… Я вижу резвость эту, и меня берет тоска,
Мне тяжко!
Строфа вышла из буффонады, и многое в ней (в частности, несерьезное слово «резвость») тянет туда обратно. Но лесные травы и жуки живут своей странной, инфантильной жизнью хлебниковского примитива. Но прорывается прекрасный стих:
Запутавшись в строении цветка…
Он борется с гротескным контекстом — с тем чтобы настроить его лирически. И читателю уже мерещится, что «Мне тяжко!», что «тоска» — это лирическое высказывание.
Стихотворение «Скрипит диванчик…» (озаглавлено «Любовь») — кульминация галантерейного языка и соответствующих представлений о любви («Ушел походкой / В сияньи дня…»). Последние его строфы:
Вчера так крепко
Я вас любил,
Порвалась цепка,
Я вас забыл.
Любовь такая
Не для меня.
Она святая
Должна быть, да!
Опять все двоится. Может быть, это гротескная гримаса, а может быть, в самом деле, это о высокой любви. Ведь олейниковский поэт не мог бы произнести словосочетание «святая любовь» — прямо, не погрузив его в защитную среду буффонады.
У Олейникова есть стихотворение «Посвящение»:
Ниточка, иголочка,
Булавочка, утюг…
Ты моя двуколочка,
А я твой битюг.
Ты моя колясочка,
Розовый букет,
У тебя есть крылышки.
У меня их нет…
Непредсказуемый подбор вещей, становящихся атрибутами женского начала, — им противополагается битюг. Двуколочка, колясочка — метафоры нежности, колеблющиеся на острие шутки. Так возникает олейниковская лиричность, избавленная от традиционной лирической «тары».
Предвижу, что со мной могут не согласиться. Существует восприятие Олейникова как поэта только комического, пародийного, осмеивающего обывательскую эстетику с ее «красивостью» и лексическим сумбуром. Все это несомненно присутствует у Олейникова, но все включено в сложную систему смысловой двупланности, целомудренно маскирующей чувство. О двупланности поэзии 1820-х годов Тынянов писал, что ей свойственно «за стиховым смыслом прятать или вторично обнаруживать еще и другой»[11].
Именно так поэт сам понимал свои стихи.
Я сказала как-то Олейникову:
— Я люблю ваши стихи больше стихов Заболоцкого… Вы расшиблись в лепешку ради того, чтобы зазвучало какое-то слово… А он не расшибся.
Он ответил:
— Я только для того и пишу, чтобы оно зазвучало.
Это свидетельство — ключ к самым значительным стихотворениям Олейникова, выступающим из ряда блистательных домашних шуток.
Одно из таких стихотворений — «Чревоугодие». В нем представлены оба словесных начала Олейникова — слово, умышленно скомпрометированное, и слово, наконец-то зазвучавшее. «Чревоугодие» имитирует балладное построение, интонацию. Но это поверхностный аспект. В 1930-х годах пародировать балладный жанр было бы бесцельно и совсем несвоевременно. Суть же стихотворения в скрещении разных пластов поэтического языка Олейникова.
Олейников убежден в том, что предшествующая поэзия не способна больше выражать современное сознание. Это у него общеобериутское. Но Заболоцкий, Хармс связаны с хлебниковской системой ценностей природы и познания и через Хлебникова с прошлым. Олейников пошел дальше. Он начинает с уничтожения наследственных сокровищ. Для того чтобы расчистить дорогу новому слову, ему нужно умертвить старые. Этому служат его языковые маски. Прежде всего маска пошляка, галантерейного человека, потому что язык подложных ценностей — самый разрушительный для любых ценностей, к которым он прикасается.