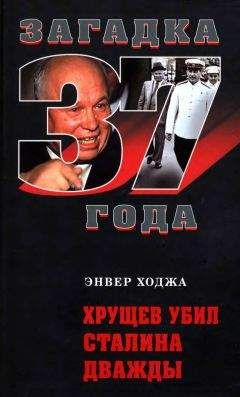Александр Величанский - Под музыку Вивальди
«Ты умеешь чувство придержать…»
Ты умеешь чувство придержать
и прикрыть чуть подведенным веком,
удается многоводным рекам
неподвижно блещущая гладь —
и порою легкий ветер вспять
тянет их течение со смехом.
«Мне хочется не красоты пустячной…»
Мне хочется не красоты пустячной,
но чуда, перешедшего за край:
искусство, не старайся, не играй,
но лишь услышать ей возможность дай,
когда я крикну ей, еще такой вчерашней:
родная, сжалься! Видишь, как я стражду —
не говори так буднично и страшно,
не привыкай ко мне, не привыкай.
«Что больней – расставанье?..»
Что больней – расставанье?
или встреч упоенье?
или боль пониманья?
или стихотворенье?
или тайная смута
у сомнений на дне,
когда вдруг на минуту
ты забыла о мне?
«А в женской мысли, нежной и незрячей…»
А в женской мысли, нежной и незрячей,
я смысла никогда не замечал:
она, как огонек жилья горячий
в ночи без окончаний и начал,
она любого смысла легче —
не различить ее и не отвлечь:
ночами так округлы плечи
и нечленораздельна речь…
И вечный мрак вкруг женской мысли вечен.
«Есть мученье душ холодных…»
Есть мученье душ холодных —
всех мучительней оно:
равнодушию дано
долго мучиться, бесплодно.
Это вечная разлука —
жить, одним собой томясь —
вот на что уходит мука —
душ единственная связь.
(Комарово)
Я писал о себе —
или нет – о любимой,
нет – о времени тонком,
как небес полутон,
но всегда оставлял
этот день нелюдимый,
ну, хотя бы назавтра,
навсегда, на потом.
Но когда вспоминал,
то шептал я невольно,
каждый нынешний день
отгоняя от глаз,
мы приехали к Вам
со своею любовью,
ни о чем не жалея,
ничего не стыдясь.
Мы приехали в тишь
перелесков предзимних,
где в небесных озерах
плавал листьев кумач,
где сквозят в сосняке,
как в забвенье бессильном,
и без признаков жизни —
только призраки дач.
Та дорога сквозь лес
не вела, не кружила —
оставалась на месте
возле крепких оград.
И сосновых высот
не скрипели пружины.
Лишь шагов наших шорох
возвращался назад.
По чужим октябрям
чьи-то птицы кричали,
оставляя всю тишь
лишь тогдашнему дню:
мы приехали к Вам
в той светлейшей печали,
что походит на осень,
если не на весну.
Мы приехали к Вам —
не к живой, не к почившей
и не к жившей когда-то
и не к сущей поднесь.
(Если можно сказать,
отчего же молчишь ты:
только небыли нет —
то, что было, то есть).
Мы глядели на тень:
по цветам на могиле
солнце быстро бежало,
очертанья теней
искажались легко,
зябко ежились, жили —
тень стального креста,
тень голубки стальной.
Мы приехали к Вам.
Был невидимый полдень.
Жег кладбищенский сторож
погребений труху —
ленты тленных венков,
хвою, стебли – но полно —
их осенний дымок
так витал наверху.
Мы молчали вдвоем.
Было легким молчанье.
И взглянуть друг на друга
мы боялись вдвоем.
Тень отбрасывать тень
наземь не в состояньи:
свет проходит насквозь
очертанья ее.
Но нельзя горевать.
Не печально, не больно —
только странно и трудно
все додумать до дна:
мы приехали к Вам
со своею любовью,
прихватив по дороге
сигарет и вина.
…А сегодня зима,
и достаточно снега,
чтобы всё, что угодно,
этой явью затмить.
Но таков был тот день —
будто вовсе он не был,
ну, а то, чего не было,
невозможно забыть.
«С каждым днем для меня всё ясней твое имя…»
С каждым днем для меня всё ясней твое имя
и лица перемены, и рук безутешная гладь.
Нужно очень спешить: ты изменишься непоправимо
через день, через миг – даже рук не успеем отнять.
Станешь новой, а та, что осталась в безжизненном прошлом
(как я помню сейчас этот чуткий наклон головы)
несказанною станет, неясной, совсем невозможной.
Я и сам невозможен. И старые строки новы.
«Ничего, ничего, еще будет в чести…»
Ничего, ничего, еще будет в чести
эта малость тепла в человечьей горсти —
стает снег во дворе под твоею озябшею тенью —
только ты не забудь, не отчаивайся и прости.
Ничего, ничего…
«Кто уничтожит волю злую…»
Кто уничтожит волю злую,
вражды безбожную межу —
затем, что руки ей целую,
в глаза счастливые гляжу,
затем, что мучаюсь разлукой
и задыхаюсь счастьем встреч,
за все отчаянье, за звуки,
которым счастья не сберечь.
«Случись со мною сказка…»
Случись со мною сказка,
чтоб шелковый клубок
катиться до развязки
передо мною мог.
Но вот уже калитка —
искомый терем, сад…
И остается нитка,
ведущая назад.
«А если станет тяжелей…»
А если станет тяжелей,
о счастии не сожалей:
не изменяй ему случайно —
печалуйся одной печалью,
и будет счастие целей.
СОЛНЦЕСТОЯНЬЕ
1970
«Только летом, только летом…»
Только летом, только летом
есть в году такой пробел:
перед зеленью и светом
слабый сумрак оробел.
В эту пору, в эту пору
свет всеобщий, мрак – ничей.
Это тот пробел, в котором
катятся черемух горы
в прорубь черную ночей.
«Летом из холодной печки…»
Летом из холодной печки
пахнет стужею и сажей.
На плите неразогретой —
полстакана молока,
пачка соли, нож и спички
и еще комок бумажный
из засаленной газеты
от январского денька.
«Деревьев новые овины…»
Деревьев новые овины
прикрыли день наполовину.
Вблизи от зарослей малины,
явившись призрачно и вдруг,
стоят огромные люпины
и озираются вокруг.
«Вот у нас какие маки…»
Вот у нас какие маки:
восклицательные знаки! —
поглядят на них и, глядь —
начинают восклицать
все окрестные соседи и зеваки.
«Мы растворяемся в погоде…»
Мы растворяемся в погоде,
прозрачной, словно благодать.
Хоть дни подобны длинной оде —
солнцестоянье на исходе —
и что-то надо предпринять.
«Был день от зноя лиловатый…»
Был день от зноя лиловатый.
Шиповник цвел аляповатый.
Кричали малые ребята.
И лаял пес.
И лаял пес.
По рытвинам между берез
тащился облачный обоз
и нас с тобою вез да вез
куда-то.
«Май на одуванчик дунет…»
Май на одуванчик дунет —
целый месяц улетит.
Что прозрачнее июня
зорька узкая глядит.
А в июле
нам вернули
года пыльный монолит.
«Мы поедем без билета…»
Мы поедем без билета
в убывающее лето.
Пассажиров сквозь газеты,
как сквозь сито протрясло.
Оттого в пустом вагоне
никого сегодня нету:
на платформе, как в июне,
пусто: пусто и светло.
«Был ли каждый Божий миг…»
Был ли каждый Божий миг
мал, как мотылек?
Иль, как небо, был велик
и, как даль, далек?
Уместился в коробке
спичечном моем —
иль, как камушек в реке,
мир исчезнет в нем?
ПЫЛАЮЩЕЕ ОЧЕРТАНЬЕ
1970–1971
1. ДЕКАБРЬ БЕЗ ЯНВАРЯ
«Гасите верхний свет и со стекла…»
Гасите верхний свет и со стекла
житейские живые отраженья
исчезнут. И декабрьская мгла
во мраке электрического тленья
за окнами предстанет без движенья,
неощутимая для жалкого тепла.
«В декабре не рассветает вовсе…»
В декабре не рассветает вовсе.
Пассажиры тусклые на транспорт
стаями бросаются с утра.
В предрассветном отсвете постылом
побледнел забитый снегом диск
угловых часов.
Кто с недосыпу,
кто с похмелья. Холодно. Вдали —
огонек болотный: то троллейбус! —
и с газетным шорохом метель
мчит ему навстречу.
Приготовься.
Соблюдай закон очередей.
Будь достоин сутолок и давки:
после анонимного удара
локтем бей куда-то наугад.
«Глотайте зимний дым!..»
Глотайте зимний дым!
Дыханием седым
ловите оторопь неразличимой жизни.
Цепляйтесь за крючки очередей,
работайте, старайтесь быть полезней,
катитесь с гор на иностранных лыжах,
выращивайте маленьких детей…
И отразитесь вы, авось, в весенних лужах,
и отпуска дождетесь наконец.
«Заполночь. Захвачены такси…»
Заполночь. Захвачены такси.
Опустев, скривились переулки,
а проспекты – те еще прямей
стали. Неприметные метели
к ночи вдруг почуяли простор.
Да мигает желтый светофор.
Вот покой: все так его хотели.
Но взгляни на мерзлое стекло:
по открытым улицам окраин,
по набухшим кромкам пустырей
по-кошачьи выгнув спины, плечи,
странные, прозрачные фигуры
движутся как будто наугад,
будто ищут след или пропажу.
Ты, увидев их, подумай так:
«Вот что нам припас кромешный мрак,
вот они – владельцы тишины,
обладатели всеобщего покоя…
Может быть, давно они погибли
или не погибнут никогда…»
Если только может быть такое.
«Зажглось окошек решето…»