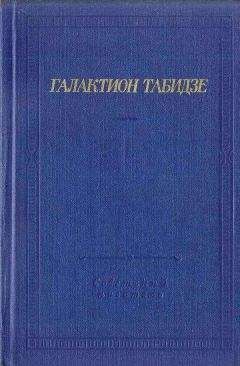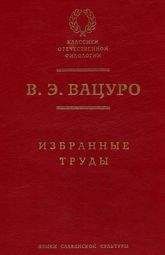Сергей Морейно - Берега дождя: Современная поэзия латышей
Оярс Вациетис
Ojārs Vācietis
(1933–1983)
Великий латышский Поэт, с большой буквы. Первопроходец, создатель современного латышского поэтического языка. Пожалуй, никто прежде с такой свободой и широтой не пользовался конкретными языковыми инструментами. Обладал редкой для XX века универсальностью, будучи лириком, физиком, эпиком, философом. С точки зрения формы чрезвычайно разнообразен.
В силу космичности мировоззрения определенно наднационален. Его поэтика пронизана всеохватывающим ритмом, и – подобно джазу – близка и понятна академику и таксисту. Младшие поэты посвящали Вациетису прекрасные строки: не как учителю и коллеге, но как чему-то большему.
Антрацит
1
Проехала машина
с каким-то там углем.
Я всю жизнь нет-нет да и вспомню
ту машину
с каким-то там углем.
Я изжаждался по одиночеству,
и я встретил
одиночество ночи в черной накидке.
Одиночество порою необходимо,
но я захлебнулся им
и начал тонуть.
По одиночеству
может идти лишь умеющий плавать.
Мне было позволено
лишь пригубить.
Но тут прошла машина
с каким-то там углем.
2
Нет, не пройти мимо
того антрацита.
Не я эту
кучу вырыл,
та куча
не станет мой дом согревать.
Зато антрацит добыт
в точно таких же шахтах,
какие сам прорубал.
По точно такому же аду,
черному,
с блуждающими огнями,
за словом идут,
за поэзией и за любовью.
И часто в местах добычи
на поверхность земли выходит
только глухой раскат.
Из черного колодца счастья
выносят самих углекопов,
и неподобающе черными,
с неподобающе светлыми глазами,
они выглядят
в полуденном солнечном блеске…
3
А у меня ведь еще инструмент есть —
только спрятан внутри.
Так долго я здесь сижу,
что кусок антрацита
уже перерос Гайзинькалнс,
потом Эльбрус
и теперь, противно
поблескивая, как автоген,
высится над Гималаями.
Больше не сыщешь сходства
со стеклянной горой,
где конь золотой годится.
Ни с чем больше нету сходства —
того, что я ощущаю,
тоже не объяснишь.
Нет,
пока я не подобрался
к бесконечному,
но определенно ползу вперед.
Не то, чтобы я понимал
бесконечность,
однако вижу,
откуда растет антрацит,
и чувствую то, что положено,
глядя на звездные пляски…
Что-то в них от меня самого,
так же, как в черном
искрящемся антраците
или Млечном пути,
научиться ходить по которому
пока невозможно.
Серого цвета
Я превратился
в одно-единственное серое око:
из серых луж
пьют серые голуби;
серый дождик
серые лужи
вгоняет в серую дрожь;
на горизонте
из серых башен
серая клякса…
Серый туман,
клубясь, наползает,
как пепел пожарища…
Я превратился
в одну-единственную серую ноздрю:
ворсинки шарфа
меня щекочут —
как в двигателях сожженный бензин;
серые пятна
на досках лесов —
как будто плотник прошелся;
запах гари —
вчера в этом городе
день загорелся, скроенный наспех,
и я в это
серое утро
вчерашний угар вдыхаю.
Он – старый солдат,
проснувшийся от одной-единственной
боли в костях,
ноющих к перемене погоды
в местах ранений,
которые многих на той войне выжгли
дотла, —
он тоже чует запах горелого.
Он – мчась по ступенькам —
еще выстраивает те формулы,
что заставят шататься фундамент физики,
скрепляя который,
сгорели многие, —
и снова воняет гарью.
И по всей квартире,
по всей улице,
по всему городу
паленого серый запах.
Я просыпаюсь
в час предрассветных сомнений
и по уши зарываюсь в серый и рыхлый пепел,
по которому мы ежечасно
и ежеминутно
бредем к своим
собственным радугам.
Мы каждое утро,
порядком еще не проснувшись,
влезаем в этот
вчерашний
густой серый пепел
и, почти не задумываясь,
трамбуем его,
превращая в асфальт на сегодня.
«Я рад...»
Я рад,
что тогда ошибся,
и то, чего я боялся,
оказалось зверью на пользу.
Я боялся
тех красных ягод
на снегу
и выше —
в стеклянных сучьях,
ибо, будучи человечьей породы,
я видел там
капли крови…
Как стынущей
красной картечью
стволы набивает
голод…
И голодная птица стынет,
превращаясь
в ледышку…
А вышло —
красные капли
на снегу
и выше, в стеклянных сучьях, —
это те самые угли,
у которых любая птица
может греться
до весны,
пока я не вышел
жечь и палить повсюду
костры зеленого цвета,
несущие, отцветая,
красные угли
жизни.
«В конце непопулярной улицы...»
В конце непопулярной улицы,
на невоспетом углу,
на непримечательном дереве
сгрудились птицы,
улетая на юг.
В их силуэтах
читалось
их тяжелое бегство
от морозов.
В желтые листья
выпал
к корням рябины
их певчий корм.
И горькими ягодами,
обагренными соком,
дерево договорилось с птицами
молча.
И сказало —
пусть они пьют, клюют, хватают, тащат…
Ведь их путь
не пройден и наполовину.
И птицы молча
брали ягоды
по половинке.
В конце непопулярной улицы,
на невоспетом углу,
под непримечательным деревом
я постучался
в твою
неприметную дверь.
«Листопад, диктующий условья...»
Листопад, диктующий условья,
в лихорадке осени раскис.
Снова телефон исходит кровью,
бес полночный снова крутит диск.
Я, как волк, луною загнан снова,
рыщущий, голодный, жадный снова,
и тебе в глаза смеюсь я снова,
синий голый лед холодных снов моих.
Телефон всего нежнее в полночь,
и цветы, что мне терпеть невмочь,
так бесстыдно пахнут только в полночь.
И да – к черту, тихая святая ночь!
Возвращаются к корням своим деревья
и текут к своим истокам реки вспять.
Телефон опять в полночном гневе…
Нет, не телефон —
земля в осенней лихорадке
перелетных птиц устала звать.
«Твои слова меня влекут...»
Твои слова меня
влекут, словно волны,
вплавь,
в мистическом свете
Луны —
в них весомость, в них невесомость, и память скользит вдоль
ресниц снежной совой, я застыл на месте, а ты меня несешь
и несешь еще и еще…
Твои слова меня
обжигают, как клекот поленьев иззябшие руки решившего
клясться, отогревают их для восхожденья, сдирания кожи,
я должен быть на вершине, где встала, лавиной застыв, и зо —
вешь, и зовешь еще и еще…
Твои слова меня
ранят, словно шипы ладонь без перчатки, я бьюсь о них
птичьей грудью жемчужной, скоро по ней прольется оранже —
вый жемчуг, ведь слова эти рвут, продираясь к кровному
братству, пожалуйста, рви меня, рви еще, и еще, и еще…
Но глубже всего пред тобой меня заставляет склониться
до самой земли
та тишина между слов, та нагота между слов и то, что позво —
лено мне в обнаженности этой до боли счастливой застыть,
ожидая – что еще, что еще и что еще…
«Я не знаю, где ты живешь...»
Я не знаю, где ты живешь,
я не знаю, живешь ли ты.
Такая жара,
что медленно закипают сирени,
оплывают свечи каштанов,
и акация
вызолотила тротуар.
И сквозь угар отцветания
я не улавливаю знака,
что ты меня слышишь,
что ощущаешь,
как некто вглядывается в тебя столь
пристально, что нужно вскакивать ночью,
нужно вздрагивать днем
и нужно бежать к горизонту
пустому, за которым лишь марево
и безымянный призыв
дальше.
Поединок
Выстрел грянул. Победитель ушел.
Побежденного унесли. Но кровь еще пачкает траву.
И, может быть, душа в меня вставлена косо,
только в этой крови я не вижу примет пораженья,
в самом деле, не пуле обуславливать жизнь,
но крови, мертвой или живой – безусловно.
Когда поля сражений обрызгали кровью пруссы,
и в алом потоке исчез последний из павших,
я, конечно, усматриваю здесь гибель народа,
но надо всем этим полем плещет крылами вечность.
Нет у меня иллюзий на тот счет, кто кого зароет,
но, когда в единый ствол срастутся летты и ливы,
кровь всех пропавших племен над его корою
будет дышать, бурлить, проливаться ливнем.
«Во имя существования рода...»
Во имя существования рода
кому-то все время приходится уходить.
Яблоко падает далеко от яблони,
и матери жаль,
и на осенних ветрах она проклинает
блудного сына.
И дети все
забывают материнскую плоть,
и матери плачут.
И тоже порой проклинают.
Жалея.
Продолжение рода
предполагает уход
даже от себя самого.
Сын, я уже тебя
не вижу за горизонтом,
но мне легко.
Ибо уйти можно лишь двояко —
бросая
или же продолжая.
Не путайте продолжающего
с заблудшим.
Отец не увидит сына,
сын – отца,
но лунною ночью
магнитное напряжение
подается на их души
и тестирует:
что есть эта несоединенность —
разрыв
или же связь,
существующая между планетами,
и, стало быть, продолжение.
Письмо из продленности