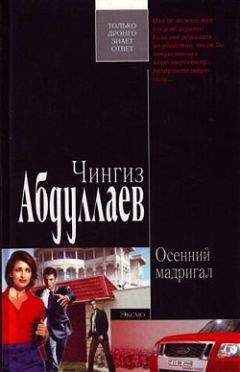Яшка казанова - стихи
Reinкарнация
запирает крылатку на десять висячих замков,
и выходит в каналы с намерением утопиться
он болезненно стар, что спасает от злых языков,
но отнюдь не способствует смелости броситься с пирса.
а в прохладных каютах матросов терзают цинга
и тоска по невестиным рюшам под тяжестью юбок.
он стоит на мосту, ароматом заморских сигар
подкрепляя решимость. но где-то в прохладных каютах
юнга тихо лелеет в губах капитанскую плоть.
слишком молод, чтоб спать в одиночку. на палубе жарко.
он становится сумрачен. солнце устало стекло
по Венеции сонной, на торсе его задержалось
и коротким лучом подтолкнуло. красавицы взгляд
стал последней наградой за нежность к цветущим глубинам.
он едва улыбается. в темных каютах царят
бездыханность и ласка. но солнце, что плавно убило
казанову, уходит на мягкое дно вместе с ним,
вспоминая любовниц, любовников, их ароматы,
их оргазмы, их стоны. «усни, мой любимый, усни» –
юнга шепчет. он солон. он – непобедимый романтик.
2001/02/06
1994
я погряз в тишине, я по-черному запил,
ты умчалась к кому-то чужому на запад:
в дюссельдорф, амстердам, черт возьми, копенгаген –
пыль дорожную в пену месила ногами.
а москва принимала измученным чревом
все мои истерии, и, в целях лечебных,
наливала мне водки. тверская жалела
поворотом направо... поворотом налево...
я слонялся по городу, как сифилитик,
слушал каждое утро: болит, не болит ли
место в теле, где каждый твой локон запомнен.
я срывал занавески с окошек, запоры
с трех дверей нашей маленькой спальни. напрасно.
я анализы крови лизал от запястья
выше...выше... давился, и привкус металла
оставался на небе. густой, как сметана.
(плюс) друзья, приходившие ежевечерне,
помогали мне встать, но тугие качели
поддавались неловко. я падал, я плакал,
я твоих фотографий заплаты залапал,
заласкал, залюбил. заболел скарлатиной.
и анализы крови, и привкус противный,
и на небе московском созвездие овна:
все мне виделось только тобой, поголовно.
я примерно учился искусству тебя забывать.
2001/02/07
яблокам
въезжай в близлежащий город.
входи в безымянный дом.
она боится щекотки
и в душ убегает до.
а после лежит, как самка,
и дышит порванным дном...
въезжай в близлежащий замок,
забудь безымянный дом:
прости хозяйке халатность,
просроченный счет за газ,
протри ей ладони лапой,
с ключицы слижи загар
наплюй на ее протесты,
по-женски-слабые «don't»
и горько тебе, и тесно,
забудь безымянный дом.
меняй, как монеты, кудри
и цвет прокушенных ртов
проплакан, прожжен, прокурен
и пропит. коньяк картон
оставит на стенках глотки.
забудь безымянный дом...
она снимает колготки
и в душ убегает до.
а после в борделе теплом
ты ляжешь в постель со мной
в надрезы, кровоподтеки
рубашку мою сомнешь.
и всласть пропитавшись телом,
поймешь непреклонный знак
я очень давно хотела,
чтоб ты ко мне приползла.
2001/02/08
уроки гибкости
танцуй, танцуй на моей могиле:
Ave Maria – течет латынь.
послушай же, вряд ли меня любили
так, как любила ты.
танцуй, мне приятны удары пяток
о злую землю и нервный грунт.
все еще помнятся свежие пятна,
когда встревожена грудь.
змеиной кожей посмертно таю
под каблуками. танцуй, танцуй!
оставлю для многих, но эту тайну
я с собой унесу.
твой танец бережно-подвенечен,
вдова-невеста, моя жена.
расслабься, ладони забрось на плечи –
ты слишком напряжена.
ты слишком траурна, но напрасно,
смотри, как яростно-пестр венок!
бродяг и кошек зови на праздник,
меня вспоминай вином.
я здесь, с тобой, я в воздухе пьяном:
надгробная нежность, ласковый труп.
как сладостно было бы слиться с ядом
твоих побелевших рук.
2001/02/09
песенка в голос
в картонных домах, начиненных чужими страстями, как нежной взрывчаткой,
я тебя дожидаюсь. я съедена этим упрямством.
влюбленность томительна и горяча чрезвычайно.
не спасет даже пьянство.
одурев от любовниц, слепой казанова бредет по каналам, на трость опираясь.
я тебя дожидаюсь. я режу ладонь о секунды.
как томатная кровь, эта псевдомедовая радость,
сок тягучей цикуты.
забываю тепло и других, превращаясь в съедобного кая под сахарной пудрой.
я тебя дожидаюсь. я льдом провожу по морщинам,
мне 75, как когда-то и где-то кому-то,
и глаза очень щиплет.
в картонных домах, начиненных чужими страстями, как мальчик-тореро,
я тебя дожидаюсь. я мулету обгрызла по краю.
остается пластинка. подвластное возрасту ретро.
до тебя догораю.
2001/02/13
уснув щекой в воде
поцелуем молочным соединяться в скверике:
дотянуться губами и яблочным соком склеить их.
небо цвета бетона не первой свежести
с бледноватым крюком для люстры: хочется – вешайся.
ах уж мне эти все твои марочкимаечкилямочки...
как кстати по шее шарфик неутомимо-ярмарочный,
до одури красный, в глазах маячит брусничным.
в моде теперь зажигалки zippo, я всерьез опасаюсь за спички.
детство скачет по лужам и тонет бумажной лодкой.
движения стали размеренны и (оттого) неловки.
народ, привыкший daily двигаться по спирали,
вовсе не замечает, как смертельно он ранен.
в замызганном такси меня до тебя доносит радио.
о-ля-ля.
2001/02/13
как все
мы называли дни недели
любимых женщин именами.
и связывали нас не деньги,
хотя на деньги нас меняли.
меня, тебя... но то, что между,
что так высокопарно прочим,
цепялось даже за одежду,
бесперебойно кровоточа.
мы жили порознь и вскоре
на пальцах отмечали встречи,
и что-то нежно-воровское
прослеживалось в каждой. резче
был дым для глаз, и сок для тела
был все тягучей, ядовитей.
я снова в прагу улетела,
когда ты уезжала в питер.
и только дворикам московским,
нас не предавшим ни на йоту,
казалось: в небе слишком скользко
и слишком тесно самолету.
внезапность сумрачных посланий
сменялась выдохами трудно.
мы двигались, пожалуй, к славе
и снова встретились друг с другом.
и жизнь, смешно, как алкоголик,
стараясь избежать агоний,
качнулась влево. бродский вздрогнул
и передвинул стрелки строго
по часовой.
2001/02/15
николас доули
напалмом нежности выжег себе клеймо,
слюну глотал язвительно, как лимон,
не морщась, хотя ее желтоватый яд
был неизбежно губителен для меня.
и я подыхал, откровенно и горячо.
она, если честно, в общем-то, ни при чем:
всему свое время, а если времени нет,
хотя бы деньги: сортир, сутенер, минет.
сплетенье пальцев было для нас с тобой
родным гамаком… ну, было, и что с того?
я память рвал на тысячи мелких дат,
чтоб стать иным, чтоб в небо стихи кидать.
а вечером улицы тонут в обильи лиц…
и я шагаю, пропойца и беллетрист,
и бывший любимый, что тоже – почти погон.
какое хамство – жаловаться на погоду.
2001/02/15
арбалетик из стекла
похмельный синдром равносилен взгляду
уже не любящему. уже.
стели мне жестче. приду и лягу,
ладони буду на свечке жечь,
чтоб ты парафиновым откровеньем
на пальцы мне трогательно сползла.
столетний дворник – стоглавый веник,
а в прошлом тоже почти что злак.
как я с тобой. бесполезный, бывший,
но так и не сбывшийся. тишина.
ты спишь, ты не ждешь меня, ты не дышишь,
ты смысла дыхания лишена.
и в дряблых ладонях седую ласку
я вынесу прочь. мне пора, пора.
запомню: твой рот широко-атласный,
чрезмерно вывернутый от ран
в нежнейшем «спасибо». портрет настенный
меня осудит десятком дул.
последний визит. самострел. спасенье.
стели мне жестче. я не приду.
2001/02/15
кукallки