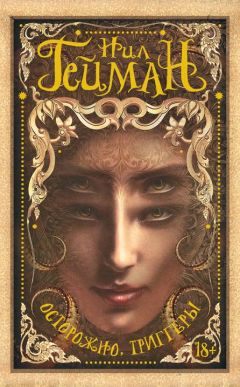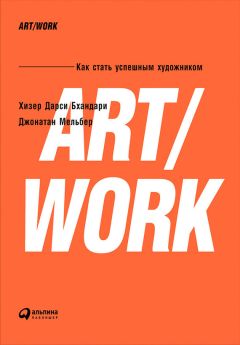Нил Гейман - Осторожно, триггеры (сборник)
Смотрите: вот перед нами убитый человек. Очевидно, его кто-то убил. И он был убит по одной или нескольким причинам из очень короткого списка: либо он кому-то мешал, либо он кого-то разозлил, либо у него было что-то такое, чего хотел кто-то другой. И где здесь, спрашивается, вызов, где загадка?
Я читаю в газетах отчеты о преступлениях, поставивших полицию в тупик, и понимаю, что с легкостью раскрыл бы любое – по меньшей мере, канву, а то ведь обычно и детали, – еще не закончив статью. Преступление нынче пошло простое. Оно перестало быть собой, утратило всякий смысл. И что мне теперь, гоняться за полицейскими и навязывать им разгадки? Нет уж, раз за разом я оставляю работу им: пусть попыхтят, раз уж мне пыхтеть не пришлось.
Вызов – вот единственное, что еще поддерживает во мне жизнь.
* * *Пчелы туманных холмов – таких высоких, что их подчас называли горами, – жужжали в лучах бледного летнего солнца, перелетая от цветка к цветку. Старый Гао слушал их безо всякого удовольствия. У его двоюродного брата из деревни на той стороне долины ульев не один десяток – и все уже полны меда, несмотря на раннюю пору. Меда, белого, будто снежный нефрит. Старый Гао отказывался признавать, что вкус у белого меда хоть сколько-нибудь лучше, чем у желтого или светло-коричневого, который давали его собственные пчелы (и, увы, давали весьма скупо), да вот только кузен брал за белый мед в два раза больше, чем Гао – за самый лучший из своих сортов.
На той стороне холма, где расположился родич, пчелы были все как на подбор – честные, работящие, палево-золотые трудяги, таскавшие в улей нектар просто-таки в непристойных количествах. У самого же Гао пчелы были сплошь черные, злые, сверкающие, будто пули, а меду производили ровно столько, чтобы пережить суровую зиму, и еще немного сверх того. Старому Гао этой малости едва хватало, чтобы распродать у себя же в деревне, по небольшому куску сот в одни руки. За соты с расплодом, полные сладких пчелиных деток (добрая закуска, почти мясо), он, конечно, просил больше – когда они вообще были, а случалось такое нечасто, потому как пчелы его, угрюмые и свирепые, все, что делали, старались делать поменьше, в том числе и новых пчел. К тому же Старый Гао всегда помнил, что каждая съеденная личинка – это будущая пчела, которая в этом году не принесет ему меду, а значит, и денег.
Да и сам Старый Гао характер имел мрачный и злой, совсем как его пчелы. Когда-то у него и жена была, но умерла родами. Сынишка, убивший ее, прожил неделю, а потом и сам отправился на тот свет. Некому будет устроить погребальные обряды для Старого Гао, никто не станет убирать его могилу по праздникам, не оставит на ней подношений. И помрет он, никому не нужный, непрощенный и незамеченный – совсем как его пчелы.
Поздней весной, когда дороги расчистились, из-за гор пришел старый белый путник с громадным коричневым мешком, притороченным за плечами. Однако вести о нем добрались до Старого Гао первыми.
– Объявился тут один варвар, пчелами интересуется, – сказал ему двоюродный брат, который с той стороны долины.
Гао на это ничего не ответил. К брату он зашел купить ведро бросовых сот – поврежденных, вскрытых, которые все равно скоро испортятся. Покупал он их задешево, на корм собственным пчелам, а если и перепродавал потом у себя в деревне, так кому какое до этого дело? Кто успел, тот и съел. А пока они вдвоем сидели в кузеновом сарае на склоне холма и пили чай. С поздней весны, когда начинал течь первый мед, и до первых морозов кузен переселялся из своего деревенского дома сюда, повыше да поближе к своим пчелам, чтобы никакой вор до них не добрался. Супруга его и дети таскали медовые соты и фляги белоснежного меда вниз, к подножию холма, на продажу.
Старый Гао воров не боялся. Блестящие черные пчелы с его пасеки сами разберутся со всяким, кто рискнет потревожить их покой. Поэтому и ночевал преспокойно в деревне, пока не приходила пора собирать мед.
– Я послал его к тебе, – сообщил кузен Гао. – Ответь на его вопросы, покажи ему пчел, и он даст тебе денег.
– Он на нашем языке-то говорит?
– Диалект у него прежуткий. Утверждает, что учил его у матросов, а они в основном из Гуанчжоу. Но схватывает он быстро, даром что старый.
Гао хмыкнул, матросы его не интересовали. День уже близился к полудню, а ему еще цельных четыре часа брести через всю долину до своей деревни, и это по дневной-то жаре. Чашку свою он допил. Чай у кузена всегда водился лучше, чем Гао мог себе позволить.
До своей пасеки он добрался затемно и большую часть добычи пустил на самые слабые ульи. Всего их у него было одиннадцать. А у кузена – больше сотни! Пока заливал мед, его успели два раза ужалить – в тыл руки и в загривок. За всю жизнь Гао жалили раз, наверное, с тысячу. Укусы других пчел он едва замечал, но те, что от его собственных, норовистых, вороных, болели на удивление долго, даже когда спадали опухоль и краснота.
На следующий день к деревенскому дому Старого Гао прибежал мальчишка – сказать, что его кто-то спрашивает (а собой этот кто-то – настоящий заграничный великан). Старый Гао в ответ неодобрительно крякнул и двинулся через всю деревню неспешным черепашьим шагом, так что скакавший впереди малец скоро пропал из виду. Чужака Гао нашел на крыльце у вдовы Чжан, с чашкой чаю в руках. Пятьдесят лет назад Гао знавал мать вдовы Чжан, она водила дружбу с его женой. Теперь-то она давно умерла. Вряд ли кто-то из знакомых жены еще остался в живых. Вдова Чжан налила Гао чаю и представила престарелому путнику. Тот как раз снял заплечный мешок и расположился у столика.
Они пригубили чай.
– Не покажете ли мне ваших пчел? – попросил незнакомец.
* * *Смерть Майкрофта означала конец Империи. Вряд ли это понимал кто-то еще, кроме нас двоих. Он лежал в этой бледной комнате, укрытый только тонкой белой простыней, словно уже превращался в призрак, каким его обычно представляли себе другие. Для довершения образа в простыне не хватало только дырок для глаз.
Я думал, болезнь сгложет его, но нет, Макрофт был толще, чем когда-либо; пальцы у него распухли в белые, лоснящиеся от жира сосиски.
– Доброго вечера, Майкрофт, – сказал ему я. – Доктор Хопкинс говорит, тебе осталось жить две недели. Он предупредил, чтобы я ни в коем случае не сообщал тебе об этом.
– Твой доктор – болван, – отозвался Майкрофт, перемежая слова долгими хриплыми вздохами. – Я и до пятницы не протяну.
– До субботы, в крайнем случае, – заметил я.
– Ты всегда был оптимистом. Нет, вечер четверга, а потом от меня останется только задачка по геометрии для Хопкинса и гробовщиков из «Снигсби и Малтерсона»: как извлечь мое тело из этой комнаты и из дома в целом. Та еще задачка, скажу я тебе, учитывая, какие тут узкие двери и коридоры.
– Я уже думал об этом, – признался я. – Особенно учитывая лестницу. Но они, скорее всего, вынут оконную раму и спустят тебя на улицу на лебедке, как пианино.
Майкрофт на это только фыркнул.
– Мне пятьдесят четыре года, Шерлок. Все британское правительство спрятано у меня в голове. Не партии с выборами и прочий бред, а самая суть дела. Никто больше не в силах понять, как связаны пустоши Северного Уэльса с маневрами наших сил в Афганистане. Никто больше не видит целой картины. Ты можешь себе представить, во что эти оболтусы и их дети превратят всю историю с индийской независимостью?
До сих пор, признаться, этот предмет меня нимало не занимал.
– А Индия станет независимой?
– Неизбежно. Максимум лет через тридцать. За последнее время я написал на эту тему несколько меморандумов. Как и на многие другие темы. И про русскую революцию (которая, рискну предречь, случится в пределах десяти лет), и про германский вопрос, и… ох, да всех не перечесть. Не то чтобы я ожидал, что их прочтут или тем паче поймут…
Еще один жуткий хриплый вздох. Легкие моего брата громыхали, как ставни в пустом доме.
– Если бы я остался жив, Британская империя сумела бы протянуть еще по меньшей мере тысячу лет, неся всей планете прогресс и мир…
В прошлом, будучи совсем мальчишкой, я почитал своим долгом воздать Майкрофту за каждое такое грандиозное заявление отборными издевательствами. Но не теперь же, не на смертном одре. Тем более что в одном я был совершенно уверен: мой брат говорит не о том государстве, что существовало в действительности, не об ущербном и несовершенном создании ущербных и несовершенных людей, но о великой Британской империи его воображения, величественной силе цивилизации и всеобщего процветания.
В империи я никогда не верил, не верю и сейчас. Зато я верю в Майкрофта.
Майкрофт Холмс… Пятьдесят четыре года от роду… Ему довелось увидеть зарю нового века, но Ее Величество королева все равно на несколько месяцев его переживет. Она старше его на тридцать с лишним лет, но для своего возраста – вполне еще крепкая старая сова.
Интересно, можно ли было как-то отсрочить этот злосчастный конец?