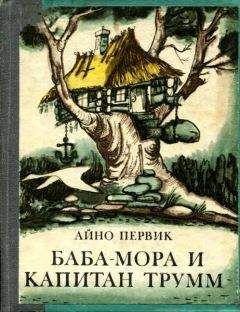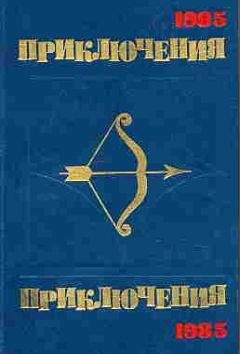Константин Корсар - Досье поэта-рецидивиста
Семья, работа, государство, политика, режим, мораль, этика — что за бред, что за игра больного разума, игра ребёнка, расставляющего кукол по своим местам, бред сознания, не делящего на ноль и свято верующего, что один плюс один равно двум. Всё, что мы видим, не существует, всё, к чему мы стремимся, лживо. Всё или ничего?
Только встав на свои собственные позиции, только разрывая порочные цепи человеческого шовинизма в природе, только отдаляясь от вдолбленных и удобных для большинства лентяев и приспособленцев идеалов можно стать человеком, человеком по сути, а не по сравнению с макакой, человеком в душе, а не в костюме, человеком-творцом, а не человеком — холодильником-телевизором…
Подели на ноль себя! Сделай невозможное! Дели каждый день и каждый час и стань бесконечностью — стань всем, иди не уставая, гори не сгорая, стань как Бог, стань Богом, стань лучше него, наконец! Это невозможно? На ноль можно делить!
* * *n/0 = infinity (бесконечность)
Душа на ладан
Душистая смола перед иконой тлеет и дымится —
Как жизнь, что не продлить и не остановить,
Когда пора пришла душе освободиться
От тела бренного, от страсти, от обид.
Она летит перед Его очами, превращаясь в дымку,
В туман, что рассыпает по утрам росу,
В едва заметный образ, в тень немую,
В печаль, усталость, грусть и… пустоту.
Дыша на ладан, мир привычный кажется пейзажем,
Картиной прошлого, того, что не вернуть,
Мазками крупными, майоликой, карикатурой, шаржем —
Художника безвестного самозабвенный труд.
Земной наш путь, уткнувшись в камень придорожный,
Придя к финалу светопреставленья своего,
Оставил пыль желаний и страстей подложных,
Терзаний плоти, разума, но не достиг он одного.
Не пожелал найти он берег тихий и манящий,
Пройдя над бездною среди массивных скал,
И ощутить восторг и упоенье красотой непреходящей
Заката, неба, моря видом — всем тем, что взгляд его ласкал
Сам Бог, его творение немое, но живое,
Что днём парит и замирает, как и мы, в ночи.
Поют псалмы кому речитативом волны в море,
О сушу с шумом разбиваясь, пенясь, опочив.
Не смог понять он смысла, назначенья жизни бренной —
К чему стремился и к чему весь мир идёт.
Душа и тело — точно дым и ладан.
Сгорит одно навек — другое оживёт…
Недоглядела
Мои родители Лёшку недолюбливали — был он слишком своенравен, старших не уважал и к мнению их почти никогда не прислушивался. Жил, как будто знает всё не хуже взрослых, вечно уставшей матери и отца, которого никогда не видел, как будто с детства уже понимал жизнь и знал, как о себе позаботиться, знал что-то недоступное другим детям и до поры не раскрывал свою тайну. «Ишь ты! Вырос раньше времени!» — говорили с ехидством соседи. Он и глазом не вёл, только иногда делал им мелкие пакости, если начинали сильно допекать. То оконное стекло ночью разобьёт кирпичом, то кота соседского краской измажет, а чёрно-оранжевая пушистая зебра потом и весь дом, то пару палок из соседской изгороди отдерёт. Его никогда не ловили — действовал изобретательно, осторожно, с расчётом, но знали — больше некому было. И потихоньку отстали. Плюнули на него — толку от разговоров всё равно не было. Только головой качали и сетовали друг другу: «Как же у такой приличной женщины растет этакий неслух — и в кого только?!»
Никогда Лёшку никто не хвалил — казалось, не за что было. Мать одна любила и заботилась, как могла. Был он поздний и очень желанный ребёнок. А он материнской ласки всё больше сторонился, и ей, естественно, было больно — ведь старалась для него, а он всё как не родной.
Лешка рос без отца. Мать работала за двоих, поэтому времени на воспитание сына оставалось крайне мало. Да и что она могла? Сыну нужен был отец. Сильный, смелый, работящий — пример для подражания, а не скучные нудные нравоучения. С матерью отношения были не родственные. Не сложились почему-то с самого детства. Жили они вдвоём. Были родственники, но и с ними Лёшка не находил тем для задушевных бесед. Так и жил — вроде и в семье, а вроде и нет. Мать зарабатывала мало, хоть и вкалывала. Так что жил Лёшка очень скромно, если не сказать бедно. Не делал из своей нищеты проблемы, поэтому и не стремился особо её преодолеть, но и насмешек над своим материальным положением не допускал. Всё, что у него было, — это его имя и честь. И дрался он за них с самого детства с яростью. Честь в молодости — единственное, чем обладает человек, единственное, чем он дорожит. Жаль, что повзрослев он заменяет честь чем-то другим, менее значимым — деньгами, положением. Печально, что человек продаёт своё достоинство за тридцать сребреников — за домик у речки, за «счастье портных». Лёшка не продавал.
Учёба Лёши шла туго — не понимал, для чего нужно запоминать покрытые слоями пыли даты битв и революций, непонятные названия рек и плоскогорий, правила написания суффиксов, сочетательный закон и правило буравчика. Назначение всех этих мёртвых знаний ему никто доступно не мог объяснить, а где их применить в жизни, сам не видел. Он не был глуп — просто не хотел делать ненужную работу. Лёшке казалось, сами учителя не понимают, зачем весь этот хлам пытаются впихнуть в его голову. Сами заблудились в лесу и не могут выбраться, кричат «ау» и при этом успевают обучать других способам найти дорогу домой в ближайшие тридцать-сорок лет.
Лёшка рано начал курить — классе в третьем. В курении он видел красоту и мужественность. Мужики с грубоватыми басами были для него авторитетами. На все уговоры матери лишь врал, позже начал шантажировать, мол, «дом подожгу, если не отстанешь». Мать то плакала, то била его полотенцем (ремней в доме не было) — ничего не помогало. Позже стала замечать странный запах от сына и следы клея на лице, одежде и руках. Поначалу думала: что-то клеил, радовалась — сын занят делом, а оказалось, что клей он нюхал, чтобы смотреть «мультики». Рыдала — сын ноль внимания. Уходил с друзьями на озеро, забирался за водокачку, куда могли пролезть только дети, выдавливал «Момент» в мешок и вдыхал из него отравленные, очень необычно и сладко пахнущие пары. Через несколько минут начинались галлюцинации.
Плыла осень. Капал дождь, и находиться на улице не очень хотелось.
— Привет, Лёш! Как дела? — спросил я, улыбаясь, встретив товарища на автобусной остановке.
— Да ниче, нормал! — ответил Алексей, нервно переваливаясь с ноги на ногу и пристально осматривая окрестности.
— Куда собрался? Автобус ждёшь?
— Да нет, — ответил Алексей. В реплике угадывалась недосказанность, начало фантастической красоты творения литератора, замысловатого художественного иносказания, поражающего воображение читателя, начало чего-то великолепного и масштабного.
— Ищу, кому пи*ды бы дать, да всё нет никого неместного, — продолжил Алёшенька.
— Ну тогда не буду тебе мешать, — молвил я и раскланялся.
По пути домой я увидел двух парней, шагающих навстречу. Лица их мне не были знакомы — думаю, не знал их и Алексей. Я было хотел предупредить непринуждённо общающихся меж собой ребят об опасности, подстерегающей их на автобусной остановке в конце улицы, по которой они так весело бежали, но почему-то не стал. Ведь они могли меня неправильно понять и даже обидеться. «Пусть все идёт своим чередом. Не буду вмешиваться в дела провидения», — подумал я и прошёл мимо незнакомцев. Один из парней нёс небольшой кожаный дипломат, по виду почти пустой, но снаружи выглядевший очень прилично. Мой взгляд он и привлёк. Вся остальная наружность выдавала в них несусветных лохов — людей, не способных за себя постоять и поэтому не частых гостей в нашем суровом рабочем районе, расположившемся на одной из окраин города-миллионника.
Я подошёл к дому. Увидел соседа, поприветствовал, закурил, и мы начали о чём-то трепаться. Не прошло и десяти минут, как мимо проплыл Алексей. Он летел в сторону своего жилища. Лицо его преобразилось, светилось от радости. Шёл рыцарь, гордо несущий свой стяг, воин, победивший только что неприятельскую рать. В руках нёс свой трофей — кожаный дипломат.
Внешней красотой и статью природа Лёху не обделила. Ростом чуть повыше среднего, с голубыми глазами и светлыми волосами, среднего телосложения. Он нравился девчонкам, но был с ними так груб и нетактичен, что все симпатии к нему быстро пропадали. Зачем хамил дамам, отталкивая их от себя, я долгое время не понимал. Лишь спустя годы разгадал эту, как оказалось, весьма печальную, загадку.
Он был честным и рассудительным человеком. Нелюбовь учителей и других взрослых к нему меня удивляла. Налицо было несовпадение внешности этого парня и его отношений с окружающим миром.
К Лёшке ни у кого из сверстников никогда не было ненависти или злости. Он был асоциален, но не со своим кругом. В школе заступался за слабых, не терпел несправедливости — был хорошим парнем в нашем понимании, чуть грустным, с мутноватым философским взглядом.