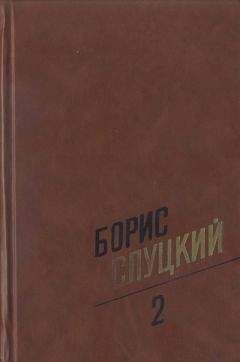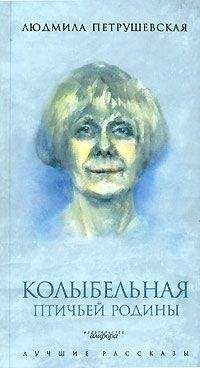Борис Слуцкий - Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения 1939–1961
РУБИКОН
Нас было десять поэтов,
Не уважавших друг друга,
Но жавших друг другу руки.
Мы были в командировке
В Италии. Нас таскали
По Умбрии и Тоскане
На митинги и приемы.
В унылой спешке банкетов
Мы жили — десять поэтов.
А я был всех моложе
И долго жил за границей
И знал, где что хранится,
В котором городе — площадь,
И башня в которой Пизе,
А также в которой мызе
Отсиживался Гарибальди,
И где какая картина,
И то, что Нерон — скотина.
Старинная тарахтелка —
Автобус, возивший группу,
Но гиды веско и грубо
И безапелляционно
Кричали термины славы.
Так было до Рубикона.
А Рубикон — речонка
С довольно шатким мосточком.
— Ну что ж, перейдем пешочком,
Как некогда Юлий Цезарь,—
Сказал я своим коллегам,
От спеси и пота — пегим.
Оставили машину,
Шестипудовое брюхо
Прокофьев вытряхнул глухо,
И любопытный Мартынов,
Пошире глаза раздвинув,
Присматривался к Рубикону,
И грустный, сонный Твардовский
Унылую думу думал,
Что вот Рубикон — таковский,
А все-таки много лучше
Москва-река или Припять
И очень хочется выпить,
И жадное любопытство
Лучилось из глаз Смирнова[11],
Что вот они снова, снова
Ведут разговор о власти,
Что цезарей и сенаты
Теперь вспоминать не надо.
А Рубикон струился,
Как в первом до Р. X. веке,
Журча, как соловейка.
И вот, вспоминая каждый
Про личные рубиконы,
Про преступленья закона,
Ритмические нарушения,
Внезапные находки
И правды обнаруженье,
Мы перешли речонку,
Что бормотала кротко
И в то же время звонко.
Да, мы перешли речонку.
ПРОЗАИКИ
Артему Веселому, Исааку Бабелю, Ивану Катаеву, Александру Лебеденко[12]
Когда русская проза пошла в лагеря —
В землекопы,
А кто половчей — в лекаря,
В дровосеки, а кто потолковей — в актеры,
В парикмахеры
Или в шоферы, —
Вы немедля забыли свое ремесло:
Прозой разве утешишься в горе?
Словно утлые щепки,
Вас влекло и несло,
Вас качало поэзии море.
По утрам, до поверки, смирны и тихи,
Вы на нарах слагали стихи.
От бескормиц, как палки, тощи и сухи,
Вы на марше творили стихи.
Из любой чепухи
Вы лепили стихи.
Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал
Рифму к рифме и строчку к строке.
То начальство стихом до костей пробирал,
То стремился излиться в тоске.
Ямб рождался из мерного боя лопат,
Словно уголь он в шахтах копался,
Точно так же на фронте из шага солдат
Он рождался и в строфы слагался.
А хорей вам за пайку заказывал вор,
Чтобы песня была потягучей,
Чтобы длинной была, как ночной разговор,
Как Печора и Лена — текучей.
А поэты вам в этом помочь не могли,
Потому что поэты до шахт не дошли.
ЧАСТУШКИ
Частушки Северной области —
Суровые,
как сама
В Северной этой области
Бушующая зима.
Частушки-коротушки
Веселые девки поют,
А бьют они —
словно пушки
Большого калибра бьют.
Они палача и паяца
Били всегда наповал.
Сталин частушек —
боялся.
Ежов за них —
убивал.
ЛОПАТЫ
На рассвете с утра пораньше
По сигналу пустеют нары.
Потолкавшись возле параши,
На работу идут коммунары.
Основатели этой державы,
Революции слава и совесть —
На работу!
С лопатою ржавой.
Ничего! Им лопата не новость.
Землекопами некогда были.
А потом — комиссарами стали.
А потом их сюда посадили
И лопаты корявые дали.
Преобразовавшие землю
Снова
Тычут
Лопатой
В планету
И довольны, что вылезла зелень,
Знаменуя полярное лето.
ИДЕАЛИСТЫ В ТУНДРЕ
Философов высылали
Вагонами, эшелонами,
А после их поселяли
Между лесами зелеными,
А после ими чернили
Тундру — белы снега,
А после их заметала
Тундра, а также — пурга.
Философы — идеалисты:
Туберкулез, пенсне,—
Но как перспективы мглисты,
Не различишь, как во сне.
Томисты, гегельянцы,
Платоники[13] и т. д.,
А рядом — преторианцы
С наганами и тэтэ[14].
Былая жизнь, как чарка,
Выпитая до дна.
А рядом — вышка, овчарка.
А смерть — у всех одна.
Приготовлением к гибели
Жизнь
кто-то из них назвал.
Эту мысль не выбили
Из них
барак и подвал.
Не выбили — подтвердили:
Назвавший был не дурак.
Философы осветили
Густой заполярный мрак.
Они были мыслью тундры.
От голоданья легки,
Величественные, как туры,
Небритые, как босяки,
Торжественные, как монахи,
Плоские, как блины,
Но триумфальны, как арки
В Париже
до войны.
ИЗ НАГАНА
В то время револьверы были разрешены.
Революционеры хранили свои револьверы
В стальных казенных сейфах,
Поставленных у стены,
Хранили, пока не теряли
Любви, надежды и веры.
Потом, подсчитав на бумаге
Или прикинув в уме
Возможности, перспективы
И подведя итоги,
Они с одного удара делали резюме,
Протягивали ноги.
Пока оседало тело,
Воспаряла душа
И, сделав свое дело,
Пробивалась дальше —
Совсем не так, как в жизни,
Ни капельки не спеша,
И точно так же, как в жизни, —
Без никоторой фальши.
«Дети врагов народа…»
Дети врагов народа —
Дочери, сыновья,
Остаточная порода,
Щепки того дровья,
Что вспыхнуло и сгорело
В тридцать седьмом году,
Нынче снова без дела
С вами день проведу.
Длинные разговоры
Будут происходить.
Многие приговоры
Надобно обсудить.
Не обсудить, а вспомнить
Бедствия и людей.
Надо как-то заполнить
Этот бескрайний день.
Пасмурная природа.
Птицы на юг летят.
Дети врагов народа
В детство свое глядят.
Где оно, детство, где оно?
Не разглядеть ничего.
Сделано дело, сделано.
Не переделать его.
ПОДЛЕСОК
Настоящего леса не знал, не застал:
Я, мальчишкой, в московских газетах читал,
Как его вырубали под корень.
Удивляло меня, поражало
тогда,
До чего он покорен.
Тихо падал, а как величаво шумел!
Разобраться я в этом тогда не сумел.
Между тем проходили года, не спеша.
Пересаженный в тундру подлесок
Вылезал из-под снега, тихонько дыша,
Тяжело.
Весь в рубцах и порезах.
Я о русской истории от сыновей
Узнавал — из рассказов печальных:
Где какого отца посушил суховей,
Где который отец был начальник.
Я часами, не перебивая, внимал,
Кто кого назначал, и судил, и снимал.
Начинались истории эти в Кремле,
А кончались в Нарыме, на Новой Земле.
Года два или больше выслушивал я
То, что мне излагали и сказывали
Невеселые дочери и сыновья,
Землекопы по квалификации.
И решил я в ту пору, что есть доброта,
Что имеется совесть и жалость,
И не виделось более мне ни черта,
Ничего мне не воображалось.
ПЕРЕСУД