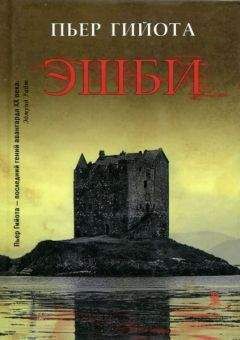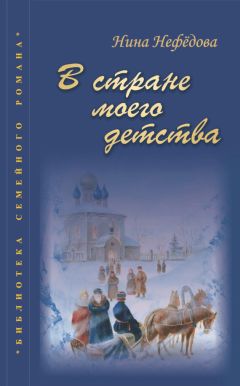Дмитрий Дашков - Поэты 1820–1830-х годов. Том 1
Глава 1
Que les sottises des pères
Ne se perdent pas pour leurs enfants[118].
О жизни повесть начинаю.
Когда, в предстарческих годах,
На все дурачества минувших лет взираю,
Не рифма — долг велит воскликнуть:
«Ах!» Родителям моим скажу я не в укору,—
Не мне судить их брачные дела,—
Я выброшен на свет, мне кажется, не в пору.
Увита колыбель не розами была…
Фортуны пасынок, не барич, сын дворянский,
Я не в Аркадии — в Москве рожден, в Мещанской.
Когда рожден? Не помню я.
Я не люблю мой день рожденья:
Напоминает он мгновенность бытия…
А это скучно мне, друзья!
Лишен я сладких чувств к родительскому дому:
Еще в младенчестве отцом
Я отдан деду был седому, —
Он прежде жил в кругу большом,
Под старость бил хлопушкой мошек.
Мой дед в отставке бригадир;
Он цельных не любил окошек…
Глядел из щелочки на мир;
Гулял между кустов в заглохшем огороде;
Под сению рябин дивился он природе;
А я, при нем, чертил указкою букварь.
Мой дядька — конюх был, наставник — пономарь.
Под стражей бабушки и няньки Акулины,
На выучку, меня учили по-латыни;
Твердил я книги наизусть.
О детских летах я одну лишь помню грусть.
В ребячестве мою стесняли слишком волю:
Таков обычай был у прежних стариков;
Я вырос; вырвался из дедовских оков
И пожил шибко в Петрополе.
Товарищей имел двух славных молодцов…
Но я не призывал духо́в:
Мефи́стофель ко мне из ада не явился…
И я душой не развратился.
Ты, луч поэзии! мой добрый гений был!
Ты силой творческой мой дух воспламенил.
Мечты прелестные! Щастливые мгновенья!
Мне внятен стал язык богов;
И предо мной таинственный покров
Упал с прекрасного творенья…
Призывный с неба глас мне слышался:
Живи!
Ум рвался сбросить в прах невежества оковы;
Прозрели чувства; мне представился мир новый;
Я жажду ощутил и славы и любви…
Мне сердца не сжимал хлад опыта суровый,
Я в нем, казалося, Природу всю вмещал;
Я жизнью свежею дышал,
Боготворил мои мечтанья…
Восторг поэзии святой
И роскошь вымысла и знанья
Угадывал душой.
Я, педантической не убоясь ферули,
Наморщивши дворянское чело,
Ученое избрал по вкусу ремесло:
Тут, с важностью взмостясь на Кантовы ходули,
Всему учился я, старухам злым назло,—
И Хемам. Логиям, и Истикам, и Икам,
Линейкам, точкам и кавыкам…
Знакомы стали мне надзвездные края,
Устав и летопись Природы.
В весенние, доверчивые годы
Огромный свиток бытия
Я развернул с благоговением;
Седую древность полюбил:
Узнал народов жизнь, их славу, их паденье;
Мир настоящий позабыл.
Я жил в давнопрошедшем мире:
То в Спарте, в Мемфисе, то в Риме, то в Эпире.
Я с чердака вселенной управлял,
Анахронически мечтал:
Сидя недвижимо на сломанном диване,
Студент, то Кесарь гордый в стане,
Самовластитель римский был;
То Мильтиад, карал я персов в Марафоне;
То в Капитолии торжествовал Камил,
В лавроволиственной короне;
То, славой утомлен, я в неге отдыхал,
Лелеясь роскошью любезного народа,
Афинским воздухом дышал…
Где ж Греция? Где Рим? Прекрасная Природа?
Где мой высокий идеал?
Где Капитолия? Где общество гигантов?
Я с неба Аттики на русский снег упал…
Меж фрейлин отставных и отставных сержантов,
Смешной, классический чудак,
Я жил по-книжному и делал всё не так…
Какая ж польза от ученья?
Для просвещенья
Убил я года три;
Я многое узнал a priori,
А тайны опыта и успевать уменья
Из книг не вычитал, дурак.
Дурацкий кстати мне колпак.
Глава 2
Grau, theurer Freund, ist alle Théorie;
Und grün des Lebens goldner Baum[119].
Si la Raison dominoit sur la terre,
il ne sʼy passeroit rien[120].
Прельстясь веков минувших славой,
Мой ум стал слишком величавый,
И окатонился мой нрав:
Чуждался обществ я, чуждался я забав.
Но от Истории, сей хартии кровавой,
Где нам о щастии так мало говорят,
Где много лгут и много льстят,
Щастливей не был я: она роман печальный,
Нередко спутанный и часто не моральный…
Я перестал его читать…
К чему рассудок обольщать?
К чему ходули мне? Мой в мире путь недальный:
Плутарх и Ливий был забыт,
Саллустий пламенный, разгневанный Тацит.
Без них век целый Фирс провел благополучно…
Всю жизнь учиться, право, скучно.
Меж римско-греческих теней
Не всё ж сидеть мне с мертвецами;
И, я не потаю пред вами,
Мне посмотреть живых хотелося людей.
В России солнце греет тоже,
Есть храбры юноши, есть девушки пригожи:
Без греков весело на родине моей…
Так басни книжные — на что же?
Без них бы смертных род здоро́вей был, ей-ей!..
На чердаке мне стало душно.
На мир прекрасный я взглянул неравнодушно…
Во мне текла не рыбья кровь.
Я не вздыхал по нотам Стерна…
Пылка, неистова, безмерна
Первоначальная любовь!
Я в жертву ей принес порыв честолюбивый,
Веселье жизни молодой:
В самом блаженстве нещастливый,
Предавшись страсти роковой,
Я испытал одни в ней муки.
Я был любим. Я слышал их,
Очаровательные звуки,
Язык восторгов неземных;
Я видел их — и взор унылый
И полный чувств и неги милой,
Страданье чистой красоты,
И слезы страсти сокровенной,
И вас, преступные мечты…
Но страшный долг… Исполнен ты.
Союз сердец, союз священный,
Разрушен он. Я клятву дал…
Ее сдержал я: оторвал
От сердца образ незабвенный…
Сгорая страстью, страсть тая,
В шуму безумного волненья,
В толпе хотел развлечься я;
Искал не радостей — забвенья…
Тогда роман унылый мой
Еще умножился главой…
И в свете женщины не все живут по моде,
Не все с спесивою душой;
Как люди ж, платят дань природе,
И любят тоже, по погоде:
Иные, утомясь скучать в кругу большом,
Иль в деревнях зимой, или в столицах летом,
Иль быть всё с мужем, всё вдвоем…
Но мы не остановимся на этом.
Уликой, в чувстве подогретом,
Ни перед кем не согрешу:
Я не сатиру здесь пишу.
Скажу лишь просто, мимоходом:
Мне было только двадцать с годом;
Но сбор искусный льстивых слов,
Сердец холодных лепетанье,
Романам старым подражанье,
Мимоходящая любовь
Души моей не шевелила.
Не так она жила! Не так она любила!
Ей голос страсти был знаком,
Знакомо сладкое страданье.
Мне всё мечталось о былом;
Мешало жить воспоминанье…
Чем щастлив был другой, тем не был я щастлив:
Я к радостям моим ревнив.
Я был в шуму забав; но чувство не хладело:
Нет! Сердце пылкое хотело
С себязабвением любить,
Восторгом чистым упиваться;
Я всё откладывал, всё медлил наслаждаться,
Я всё сбирался жить…
Я на лету не рвал мгновенье,
Еще Гораций не прельщал.
Не о минутном упоенье
Я, полн надеждою, мечтал…
Гораций черств для страсти пылкой,
Порывов сердца роковых:
Француз-римлянин, нравом гибкой,
С философической улыбкой,
Хорош для юношей седых.
Я полюбил его ученье,
Как скрылось жизни сновиденье
И мир увидел наяву…
Признаньем заключу главу:
Науки — мне не впрок, любовь — мое мученье.
Вполне я щастлив быть не мог:
В ученьи мне мешали страсти,
В любви мешали скучный долг
И часто мнимые напасти…
Ее история жалка.
Кто знал ловить земную радость,
На жизнь смотрел не свысока,
Тех весела, безбурна младость,
Любовь шутливая легка;
Она для них игра, забава.
Мне не дал бог такого нрава:
Любви веселой я не знал.
С моею странною душою,
Как Вертер-Донкишот, боролся я с мечтою,
Руссо-фанатика читал;
В московском свете представлял
Сентиментальную любви карикатуру;
Петрарка новый я, пел новую Лауру,
И Яуза была Воклюзою моей…
Я, в цвете юношеских дней
Дурак классический от скучного ученья,
Стал романтический дурак
От прихоти воображенья.
В природе светлой я один лишь видел мрак…
Жалел прошедшее, томился ожиданьем;
Мой быт существенный я отравлял мечтаньем;
Бездомный на небе и на земле в гостях,
Довольно пред луной стоял я на часах,
На гробовом шатался поле,
Живал отшельником в лесах!
Я, мученик по доброй воле,
Назло грамматики, кой-как,
Без настоящего, скитался в мире — так…
А мог бы знатен быть, богат, в блестящей доле…
Дурацкий кстати мне колпак.
Глава 3,4