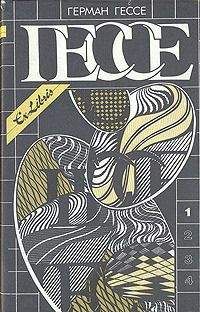Лидия Алексеева - Горькое счастье: Собрание сочинений
ПЛАЧ ТРЕТИЙ. Покаяние
…отче! я согрешил… и уже недостоин
От Луки 15, ст. 18—19 или/и 21
Чтобы прут засохший ожил,
зеленью пророс, цветами,
чтобы жезл, змеиной кожей
запестрев, уполз под камень;
Лотова жена без стона
стала каменной колонной:
все деянья Той десницы,
чьи плоды — земля и звезды,
в силе нет Тому границы.
Кто из ничего всё создал,
хочет — вносит измененья
в облик Своего творенья.
Только разум человечий,
что в его решеньях волен,
сбить с пути его, конечно,
всех чудес свершенных боле:
если зло избрали люди.
Божья власть к добру не нудит.
Но как если бы пустыня,
что кишит зверьем и гадом,
в зарослях колючих ныне —
обернулась райским садом,
где цветы светло пестреют,
где плоды медово зреют, —
так и тот, кто в злобе зверской
жизнь безумно расточает
и в греха болоте мерзком
сгнил, ослеп и встать не чает, —
вспрянет вдруг с тоской большою,
сердцем нов и чист душою.
Кто, греша черно и грязно,
годы отдал тьме обмана
и в густых сетях соблазна
впал в ничтожество — нежданно
мановеньем Божьей длани
обратится и восстанет.
И такая перемена —
всех чудес чудесней сила,
ничего нет в мире тленном,
что б ее превосходило;
Божьей длани всемогущей
дивный дар душе живущей.
И когда до крайней грани
человека грех доводит,
вдруг Всевышний ближе станет
к роковой его невзгоде:
милостивой властью
Божьей новый дух и сердце вложит.
Человек, как прут засохший,
вдруг добром зазеленеет,
в покаяньи сбросит кожу
всех личин греха, как змеи,
чтоб душа в добре окрепла,
фениксом взлетев из пепла.
Как орел, поднявши вежды,
взор свой к небу обращает
и оно лучом надежды
и любви его встречает;
новым воспарив доверьем,
старых мыслей сбросив перья, —
так и грешник, что в пустыне
борется с позорной смертью, –
жажде высшей благостыни
тронул Божье милосердье.
И судьбу иную начал,
о грехах болея, плача.
Плачет и болеет грешник
и себе желает боли,
что была бы мук кромешных
нестерпимее и боле,
что гремят в страданьи диком
воем, стоном, хрипом, криком;
плачет и желает жадно
выше звезд подняться, чтобы
слез низринуть водопады,
ими смыть деянья злобы,
чтобы грех неискупленный
утопить в воде соленой.
Так он, плача и болея,
полон тайного томленья,
тяжко пал лицом к земле и
жаждет вздоха облегченья,
но едва-едва из тела
скорбное «увы» слетело.
И опять, как мрамор, скован,
холоднее льдины белой,
вымолвить не может слова —
скорбь и боль связали тело.
Вдруг прорвался голос, плача,
и, вздыхая горько, начал:
«Отче», — и, почти что было
грех поведав, снова замер,
речь в устах его застыла,
он облился вновь слезами —
и умолк. Ему казалось —
сердце с болью разорвалось.
Но затем, душась рыданьем,
токи слез дождем роняя,
снова начал то, что ране
не сумел сказать, стеная:
«Отче, согрешил», — но дале
плач и вздох лишь внятны стали.
Словно в жадном состязаньи
кто же даст промолвить слово,
кто развяжет покаянье, —
и один теснит другого,
первенство снискать желает,
уст и глаз не оставляет.
Юг дождливый, лютый север
так по небу гонят тучи,
громоздя их в бурном гневе,
в битве грозной и летучей;
одержим победы жаждой,
первым быть желает каждый.
Что с лица слезой горячей
льется, вздохами томится,
что вздыхает в горьком плаче,
вздохом плачет и стремится
всё сказать, к чему готово
сквозь печаль и слезы — слово.
А уже на мрак пустыни,
тени скал ее постылых,
ночь спустила сумрак синий,
темнотою всё прикрыла,
и, слетая, ветер горный
холодел в пустыне черной.
Стадо сном объято крепким,
не пасется, не хлопочет,
в чаще зверя, птиц по веткам
не слыхать в молчаньи ночи.
Только грешник сна не знает,
в мыслях горестных стенает.
Вопиет: — Увы, о, где бы
мне укрыть мой грех бесстыжий,
над собой зачем я небо
в красоте и блеске вижу:
землю я избрал беспечно,
оскверняя то, что вечно.
Разве мне земля не ясно
языком лугов сказала —
что с зарей цвело прекрасно,
к ночи сжалось и увяло, —
я ж не стал мудрее, зная,
что пройдет краса земная.
И глядел на море что я,
как кипит и бьется дико,
как не ведает покоя
в синеве своей великой:
говорили ж волны эти —
постоянства нет на свете?
Любовался зря, как скоро
птичьи крылья мчатся к небу,
и не чувствовал укора,
и не мыслил — так и мне бы
над землей мою дорогу
обратить навеки к Богу.
Ночь слепая, ночь глухая,
мне, слепому и глухому,
ты подобна, — и, вздыхая,
кроюсь я во мрак знакомый, —
час зари мне страшен ясной,
слезной — мне, а всем — прекрасной.
Ибо даже недостойно
глубине греха такого,
чтобы светлый день спокойно
для меня открылся снова, —
если ж наступить захочет,
будет мне чернее ночи.
На ночном горят покрове
звезды вечными лучами,
словно говорят с любовью:
ах, взгляни, любуйся нами!
Как мы ярки, как мы чисты,
так же нежны, как лучисты.
О, пойми, коль дар великий
дал Отец твой слугам малым
и украсил наши лики
светом славы небывалым, —
примешь вящий дар чудесный,
ты, как сын, в стране небесной.
Мертвый лик луны прекрасной,
золотое сея пламя,
мне глядел в лицо и ясно
говорил, скользя лучами:
быть должно твое желанье —
знать Творца, познав созданье.
Лишь подумай, если эта
мертвая краса волнует,
сколь душа бессмертным светом
превосходит пыль земную!
Сколь исполнен благодати
вышний Бог, души создатель!
Если видим красоту мы
на красу души похожей,
какова душа, подумай,
что хранит подобье Божье?
И каков сам Бог предвечный,
бесподобный, бесконечный?
Хороша краса земная,
что души есть образ зримый,
краше все ж душа, являя
Божий образ, в ней таимый,
всех же краше Бог единый,
Кто всему и всем причина.
И с безумною отвагой
я хотел оставить Бога —
Кто мне истинное благо,
жизнь моя, моя дорога,
путь, ведущий без сомненья
от погибели в спасенье.
Ты — та жизнь, которой веря,
мы по смерти вечно живы,
даже видим в смерти двери
к жизни лучшей и счастливой,
где добры и богоданны
все дары Тобой, избранным.
О заплаканные очи,
слез пролейте океаны,
плачьте, плачьте дни и ночи,
плачьте, плачьте неустанно, —
если этим грех убудет,
пусть весь век мой плачем будет.
Если ж скуден я слезами,
слез для плача нет довольно,
ты заплачь, холодный камень,
мой приют в пути невольный, —
будет пусть в моей заботе
я из камня, ты из плоти.
Солнце ясное, другие
золоти лучами горы,
тучи мне пошли глухие,
чтобы скрыться от позора,
чтобы ночь меня укрыла,
чтоб лица не видно было!..
От других укроюсь скоро —
ночью заслонюсь, горою, —
но ни ночь, ни эти горы
от меня меня не скроют!
Трепещу душой моею —
сам в себя глядясь, бледнею.
Что я? Человек? О, где ж там!
Червь я, червь, что был раздавлен
всей моею жизнью грешной,
злою мерзостью ославлен, —
и теперь в позоре гада
славы суетной награда.
О, и я, и я, ничтожный,
грех свершить решился, Боже,
зная — всё Тебе возможно,
власть Твоя всегда всё может:
забывая, кто Ты, что Ты, —
милостей Твоих щедроты.
И еще живу? И светит
солнце мне? Земля всё та же?
Небо молниями метит
в дуб, совсем безвинный даже,
а того, кто грех свершает,
не разит и не сжигает.
Ах, душа, грехом больная,
тяжела твоя тревога,
как и не скорбеть, стеная,
ты ведь оскорбила Бога —
и Творца, в великой злобе,
и в себе Его подобье.
Дал мне светлый дар — свободу,
к правде и любви стремленье,
созданную Им природу —
в вечное мое владенье;
человек пусть правит свято
от востока до заката.
Небесам велел всесильный
оградить меня от злого,
звездам — слать мне изобилье
всякого добра земного:
и огонь, что согревает,
ветерок, что освежает.
Воду, чтоб меня омыла,
землю, чтоб меня держала,
от напастей чтоб укрыла
гору крепкую и скалы,
серебро в земле и злато —
чтобы мне прожить богато.
В пищу мне плоды, что зреют,
для леченья выбрал травы,
всё мне служит, что умеет
здесь ходить, летать и плавать,
дал мне свет существованья,
разум, мудрость, смысл и знанье.
И еще дал совесть,
чтобы отделить умел я злое
от добра, и после пробы
что добро — избрал бы то я,
и когда бы повстречался,
зла бежал, добру отдался.
Для меня узорным цветом
юная весна красива,
для меня струится летом
золотом колосьев нива;
зрелой осени услада —
мне плоды деревьев сада.
Высечет огонь из кремня
и дрова зима добудет;
и семян обильных бремя
мать хранить в запасе будет;
плавают для человека рыбы
и в морях и в реках.
Сладкий мед сбирают пчелы,
овцы шерсть мне уступают,
принял упряжь вол тяжелый,
кони резвые летают,
птицы завивают гнезда,
светит солнце, месяц, звезды.
Если б не было нам надо,
неизбежно умирая,
в страхе помнить муки ада
на путях земного рая!
Жизнь моя — в грехе мученье,
Божьей правды поношенье.
Скот, что без понятья бродит
по лесам, однако знает,
кто ему творит добро, и
благодарность ощущает;
я же стал, грехом владеем,
благодетелю — злодеем.
Буду ль всех зверей подлее,
всей неблагодарней твари,
в темной жизни грех лелея,
позабыв о страшной каре:
постоянный Твой предатель,
о, души моей создатель!
И моя свершилась участь,
и раскаянье терзает:
под волнами скорби мучась,
жизнь моя едва мерцает —
в волны те влились навеки
слез моих несметных реки.
Как ручьи и реки в море
влиться отовсюду мчатся,
так в мое большое горе
беды худшие стремятся,
все в одном сливаясь хоре,
словно я — такое море.
Как другие, что тоскуют:
было счастье — и не стало,
так и я познал такую
боль — и вспомнил смерти жало.
Ибо всё утратил разом —
свет, добро, здоровье, разум.
Если жаль другим бывает
отчего лишиться дома,
край родимый покидая,
эта горечь так знакома
мне, в пути моем бездомном,
в мире диком и огромном.
Если плачутся другие,
что долгов их давит тяжесть,
как отдам свои долги я —
не могу придумать даже:
не загладить сотой части
зла, что причинили страсти.
Если плотью кто болеет —
не найдет себе покою,
но насколько тяжелее
мне с моей больной душою!
Грех, со мною не раздельный,
мне грозит косой смертельной.
Если только слово злое
совести иной докука,
боль мне сердце рвет надво е,
и моя огромна мука:
ибо в злобе я, несчастный,
ввергнул жизнь в позор ужасный.
Если смерть несет смятенье
к ней приговоренным людям,
злей, страшней мое мученье
на пороге смерти будет:
я, с моей душою грешной,
брошен буду в ад кромешный.
Силы нет снести унынья,
сердце рвется покаяньем,
сколь велик был грех доныне —
велико теперь страданье.
Знаю — грех велик, но всё же —
больше милосердье Божье!
Больше Божье милосердье
всех моих земных пороков,
Он карать не станет смертью
кающегося жестоко.
Так чего ж я жду, робея?
О душа, к Нему, скорее!
Он убогих утешенье
и прибежище для нищих,
милосердье и прощенье,
что находит тот, кто ищет.
Путь — истина — жизнь — и двери:
Божий дар смиренной вере.
Если жестче я, чем камень,
холоднее льдины белой, —
залит весь теперь слезами,
солнце милости согрело:
так вода и камень точит,
солнце в небе лед растопит.
Будет, будет! Миру воздан
темный дар в довольной мере,
я для лучших целей создан,
чем земные. Землю — зверям,
в небесах же сердце ищет
вечное себе жилище.
Горе мне! Чтоб для утробы
я оставил пир блаженный!
Для земной и горькой злобы
хлеб небесный и нетленный,
ангельских даров избыток,
путникам святой напиток!
Небеса, росой слетите,
сердце милостью спасая,
облака, дождем падите,
праведника омывая,
о земля, раскрой глубины
и Спасителя роди нам!
Вот встаю от зла поспешно,
вот иду к отцу родному, —
отмывая плачем грешной
жизни грязь, бегу я к дому,
и, упавши ниц, промолвлю
и с молитвой и с любовью:
Отче вечный; слов не знаю,
мой язык проклятьем связан
зла, что я припоминаю,
и о нем сказать обязан:
грешен, грешен я душою
перед небом и тобою.
Грешен, грешен я, несчастный,
пред твоим подобьем, Отче,
потому влачусь в ужасной
темноте кромешной ночи;
но твоя святая милость
в покаянии открылась.
Дорогой отец и милый,
вот к тебе пришел я снова,
накажи за всё, что было,
и уйду от света злого:
я твой сын, в слезах, смиренный,
жизнь моя — твой дар бесценный.
Трепещу в тоске, о Боже,
и в отчаянной надежде, —
звать отцом Тебя? Быть может,
не ответишь мне, как прежде,
называя мотом лживым,
молвя в гневе справедливом:
«Ты ли, выродок, присвоил
Моего названье сына?
Может солнце огневое
мрака породить пучину?
Так и белый голубь тоже
ворона родить не может.
Я добром и правдой славен,
ты же злобен нечестиво,
Я всех правильнее правил,
Мною красота красива, —
ты же мути всей мутнее,
сам грехов своих чернее.
Чистоты Я ключ утешный,
ты же грязно предан блуду, —
тяжко ты пред Богом грешен,
Я твоим судьею буду, —
Я ведь мудрость, разум, знанье,
ты — слепое о слушанье».
Я боюсь, что так, о Боже.
Ты в ответ воскликнешь ныне, —
но ведь Ты отец мой всё же
в бесконечной благостыне…
Как Тебя мне звать иначе?
Нет, скажу: «Отец мой!», плача.
Что со мной! На это имя
разве право я имею!
Между слугами Твоими
места требовать не смею:
стать слугою самым малым
было б счастьем небывалым!
Кинув разум, теша прихоть,
я, когда-то именитый,
ныне должен горе мыкать, —
сокрушенный и убитый.
Сохну, гибну, алча пиши,
жалкий, грустный, голый, нищий.
Вспомню, ах, как непорочно
жизнь моя текла с Тобою, —
умереть мне легче — точно
я прощаюсь сам с собою.
Лишь надежда мне спасенье —
есть раскаянным прощенье.
Да, я нищий, тот, который
открывает без смущенья
язвы тайные для взора,
чтобы вызвать сожаленье.
О, воззри на эти раны —
смилуйся над покаянным!
Смилуйся, Отец мой! в боли
сына грешного помилуй,
что в пыли простертый молит,
льнет к ногам Твоим уныло, —
о, прости, Отец предвечный,
милосердьем бесконечный.
Не таюсь и сам открою:
велики грехи и гадки,
грех стоит передо мною
в суетной его повадке,
и дела мои другие
и нечистые и злые.
Смилуйся, Отец единый,
Ты ведь не утес гранитный,
чтоб к Тебе молитва сына,
что скорбит, грехом убитый,
в небеса не долетела,
сердца тронуть не сумела.
Ты ведь добр — и это знают
души всех, к Тебе идущих, —
если лишь слеза, сползая,
если вздох, Тебя зовущий,
в небо воздетая, Боже,
вымолить прощенье может!
Речь моя несовершенна,
рвется всё сказать напрасно,
но никак не сокровенно
от Тебя, что сердцу ясно:
боль, что вздохом — звук унылый,
речь — слезами заменила! —
Грешник молвил так —
и разом устремился к отчей сени.
Лишь его направил разум
и открыл добра ступени —
и Отец навстречу вышел,
благости исполнен высшей.
Сына внял мольбе смиренной,
поцелуем отчим встретил
и в краю любви блаженной,
где бессменно солнце светит,
за руку повел с собою,
чтоб вкусил с пути покоя.
И когда надел скиталец
ризу чистоты чудесной,
перстень дал ему на палец
в знак любви Отец небесный:
радость для него открылась –
вечно славить Божью милость.
МИЛОН РАКИЧ (1876-1938)