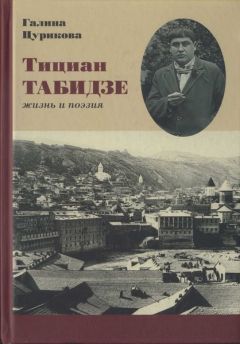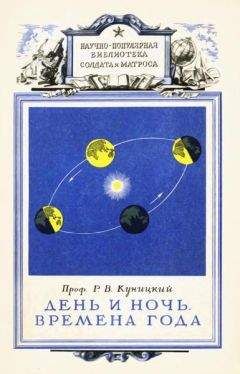Галина Цурикова - Тициан Табидзе: жизнь и поэзия
В Судейкине с первого взгляда чувствовался артист: русский аристократ с голубыми светлыми глазами, с легкой, античной фигурой такой стройности, что в свои сорок лет казался он лицеистом. Живое воплощение Дориана Грея. «Светлые глаза — глаза творца и юноши — хранят какую-то большую печаль». Первым встретил его, конечно, Паоло Яшвили, и Судейкин был от него в восторге. Потом и Тициан побывал у художника — в полуподвальной комнате, полной картин. В связи с выставкой современной грузинской живописи Тициану хотелось написать для газеты «Сакартвело» статью «Диалог с художником». От этой мысли пришлось отказаться — монолог Судейкина об искусстве «был гениален».
«Я записал тогда его статью о грузинских художниках и напечатал в газете, — рассказывает Тициан. — Думаю, что это единственная в Грузии статья настоящего мастера».
Первым откровением для Судейкина был Пиросманишвили — «гений необъяснимый».
В ноябре Тициан уехал в деревню на похороны отца. Мыслями, всею душой он еще был в Тифлисе. Осталось надолго чувство горечи, непростимой, невольной вины, как неоплатный сыновний долг:
Не был я в трауре,
Был только в черном, —
И вот я страдаю
Только за это.
Но трауром стала
Старая песня:
Отец дорогой мой — безумный священник —
И малярия…
Это стихотворение «Священник и малярия в гробу» написано год спустя. Им завершается маленький цикл стихов, который сам Тициан иногда называл «Орпирский сезон», иногда — «Осень в Орпири» (стихотворение под этим названием было написано в апреле 1919 года).
В автобиографии Тициан отмечает важное для него соответствие цикла «Орпирский сезон» со стихами А. Блока о России и еще — с поэзией Жюля Лафорга, наибольшее влияние которого чувствуется начиная именно с этой поры.
Это — стихи о родине.
Родина здесь предстает уже не в романтическом виде раскаленной солнцем пустыни, сожженной белой дороги народных бедствий, не поэтически-условной и далекой Халдеи (хотя это слово, «Халдея», еще звучит) и не под видом «халдейского балагана». Родина — даже не просто деревня на берегу Риона — как тоже бывало… Промокшая, стынущая на осеннем ветру земля, на которой холодно даже лягушкам:
Трупом Левиафана Орпири гниет.
Бродят аисты, пересекая болота.
Гнется ветвью душа. Средь рионских болот
Аист — как тонконогая тень Дон-Кихота.
Зябко в лужах последним лягушкам. Они
Шевелятся в пузыристых слизистых гнездах.
Въехал на дилижансе Октябрь. О, вздохни —
Полон насморками и простудами воздух.
Слава Грузии! От нехмельного вина
Имеретии все-таки я опьянею.
Как наседка зимою, земля холодна,
Сокрушаюсь о том, наклонившись над нею.
Жаба Лотреамона, оплакать тебе
Надо грязь эту, самую мощную в мире.
Все же всем пантеонам, земле Дидубе[7]
Предпочту я прогнившее тело Орпири.
Стихи об этом писались в пору белую, солнечную — в апреле.
Что заметнее в этих стихах — книжность (Левиафан, Дон-Кихот, зловещая жаба Лотреамона — порождение больного рассудка) или пристальность взгляда, обостренность обыкновенных чувств, почти болезненная острота ощущений человека, вернувшегося домой после долгой разлуки?
Три стихотворения о священнике и малярии — реквием отцу, но ему ли только? Не всей ли той жизни, что ушла вместе с ним?
Мучительно повторяясь, как бы развивая музыкальную тему, звучит «старая песня»: «Отец мой — безумный священник — и малярия».
Не музыка слова, не мелодия аллитераций — музыкальное развитие темы…
В стихах об отце возникает своеобразный поэтический образ того прошлого, о котором Тициан писал впоследствии с горечью (в автобиографии): «У меня на глазах деревни вымирали от лихорадки, и жители с проклятием оставляли насиженные места».
Прошлое, ставшее частицей души поэта, ее трагической нотой:
Старый Орпири. Прах пристани разоренной,
Небо Халдеи воздвигнуто эшафотом.
Каждую щепку души пересчитать упоенно —
Вот каким мономан предан отныне заботам.
Грузии светлой звезда умерла в небосводе,
Реквием слышится в каждой из наших мелодий.
Старая песня: безумный священник и малярия.
Сплетаются мотивы исторические, бытописательные, лирические: лихорадка, вошедшая в плоть и кровь, так что кажется, будто «лихорадит луну из-под туч навеса», «плачут лягушки в болоте, спрятаны тиною, будто душит чахотка их кашлем усталым», и «луна влачится, тяжелым шурша одеялом»: и тут же — «забытые сатурналии» прошлых лет, «смрадные язвы» далеких бедствий и «желтые очи монголов». Небо Халдеи над старой, разрушенной пристанью на берегу Риона, памятником былого благоденствия, тех летописных лет, когда Рион был судоходной рекой, и корабли приходили в Орпири. Мысли о родине и мысли о себе, о своей судьбе — неразделимы:
С юных лет только реквием слышу я, длящийся ныне.
Словно звезды по небу, расселись лягушки-халдеи,
Мухи дохлые всюду мерещатся мне в паутине,
Паутина же к телу рубашкою льнет все плотнее.
Судьбы родины… Счастье любви… Все живые
Чувства мной не забыты — поверьте мне в этом.
Но в глазах у других вижу очи отца я слепые —
Обо мне они плачут, навеки покинуты светом.
Мне ведь тоже мечталось о доме, пускай небогатом,
И не так уже много прошу у судьбы я лукавой.
Только все исчезает и мчится куда-то,
Я же собственный гроб проношу, словно памятник славы[8].
Это — реквием. В нем боль утраты и горестное раздумье: «Раньше вас я спрашиваю самого себя: почему так согнулась душа, почему она в таком смятении? Минуты мук неумолимый рок соединяет воедино». И будничное: «Я тоже мечтал устроиться в тени моего двора. Ах, я тоже хотел иметь свой дом и основу».
Мне хочется обратить внимание на образ, впервые возникший в стихотворении «Сатурн и малярия», смутный и странный: «Мухи дохлые всюду мерещатся мне в паутине, паутина же к телу рубашкою льнет все плотнее». В стихотворении 1921 года «Нине Макашвили» этот образ повторится в знакомой мелодии реквиема живым:
Словно с креста балаганного — красное платье.
Голос твой нежностью болен — могу ли молчать я?
Старый сонет навевает терцину упрямо…
Тьма опустилась, молчат на базаре духаны,
Месяц восходит, похожий на труп бездыханный…
Как ты смеялась под сводами Ванкского храма!
Мы на Мухранскому мосту, над кипящей водою.
В Грузии жить — все равно, что покончить с собою!
Самозабвенно мы любим ее, беспричинно —
Нравится нам заманившая нас паутина…
Образ паутины, льнущей рубашкою к телу, получил трагическую завершенность.
…Стихотворение «Безумный священник и малярия» было написано. Он хотел прочитать его отцу — пусть мертвому — сам не мог, был словно бы в лихорадке, попросил старшую из сестер, Софико, и она вслух прочитала стихи, а потом листок со стихами положили в гроб.
…Горит Халдея, покрыта
Несгорающею рясой,
Пламенем растекаются
В душе моей грозы,
И, как всегда, со Смертью
Вступаю я в поединок,
А тень твоя рядом со мною
Уходит в это сраженье,
Незримая миру.
Весь мир закружит
Мною спетая песня,
Отец дорогой мой — безумный священник —
И малярия.
Свадьбу не отложили. Из его родственников никто не приехал: все были в трауре. На свадьбу пришли друзья — художники и поэты с красными гвоздиками в петлицах. «Паоло носился по городу — доставал что нужно было. Он помчался в Батум за цветами и, вместо флердоранжа, привез мне для фаты живые белые пармские фиалки, — вспоминает жена Тициана. — Он сам составлял меню, он привел поваров из „Химериона“, официантов. Он на собственный вкус заставлял убирать комнаты в доме моего дяди на Грибоедовской, 18. Паоло встречал мою маму и вообще взял на себя все хлопоты. Тициан был нездоров, и Паоло оберегал его… Собралось народу человек двести. Гостей тоже приглашал Паоло. Он тратил деньги, а у самого штаны были рваные — на это он не обращал внимания». Торжественное венчание состоялось в Кашветском соборе, потом пышное празднество в богатой чужой квартире…
«Мне было стыдно признаться, — вспоминает Н. А. Табидзе, — что у Тициана нет квартиры. Наутро после свадебного пира мы с друзьями стояли на углу Грибоедовской и улицы Чавчавадзе, размышляя, куда пойти. У Тициана была высокая температура, он еле стоял на ногах. Комната была только у Лели Джапаридзе, на улице Броссе́, а он уехал проводить барышню; по дороге он вспомнил наше бедственное положение и с полпути вернулся — повел нас к себе. Друзья привезли нас с Тицианом в квартиру Лели, пропустили вперед, а сами куда-то исчезли. Едва мы вошли в комнату — Тициан свалился на постель. Я была в ужасе, я страшно перепугалась: Тициан бредил — я не знала, что делать. Я, вся дрожа, сидела в другом конце комнаты на диване и плакала. Вдруг открылась дверь, и вошел оживленный, довольный Паоло, а за ним — остальные. Я в слезах бросилась к нему с упреками: одну меня с больным оставили… Тогда Паоло мне рассказал, что в коридоре, когда мы входили, выла собака — это плохая примета; они испугались за Тициана и решили собаку убрать. Они все погнались за собакой, поймали ее на берегу Куры и бросили в воду, а потом следили, чтобы собака не выплыла, но собака вылезла из воды у Мухранского моста, отряхнулась и побежала. Паоло вскочил на первого попавшегося извозчика и бросился ее догонять, поймал, затащил в аптеку и дал ей стрихнин, а потом ее снова бросил в воду и только тогда успокоился, что с Тицианом ничего не случится.