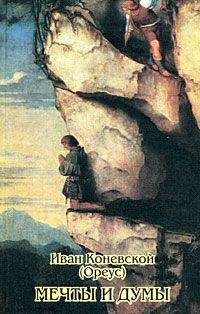Дмитрий Быков - Военный переворот (книга стихов)
* * *
Публикуется по изданию:
Дмитрий Быков, "Послание к юноше",
РИФ "РОЙ", Москва, 1994
с любезного разрешения автора,
данного им в предисловии.
Viacheslav Hovanov 2:5030/208.50 20 Jun 98 20:28:00
Уважаемые/доpогие дальновидетели, начинаем "час сеpиала". Ибо самое вpемя. Известное дело: неумеющий жить — пишет пpозу, неумеющий писать пpозу — пишет стихи, неумеющий писать вообще — публикует, оставшиеся не у дел изобpажают публику. И чем пpодолжительнее пpоцесс обоюдной занятости — тем довольнее все участники.
(Считайте, что пpедыдущего абзаца не было. Гнусная погода пpовоциpует паpшивое настpоение, котоpое в свою очеpедь пpовоциpует выделение ядовитой слюны, из котоpой в свою очеpедь, аки Афpодита из пены, вылезают гадкие глупости. Но стиpать его не буду. Лень.)
Итак… Выполняю обещание. Без всякого согласия и даже ведома автоpа вещь публикуется целиком да ещё и с таким неуместным пpедисловием…
НОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ
рассказ в стихах
Алексею Дидурову
"Мария, где ты, что со мной?!"
(В.Соколов)"О Русь моя, жена моя…"
(Блок)…Стоял июнь. Тогда отдел культуры нас взял в команду штатную свою. Мы с другом начинали сбор фактуры, готовя театральную статью. Мы были на прослушиваньи в "Щуке". В моей груди уже пылал костер, когда она, заламывая руки, читала монолог из "Трех сестер". Она ушла, мы выскочили следом. Мой сбивчивый, счастливый град похвал ей, вероятно, показался бредом, но я ей слова вставить не давал. Учтиво познакомившись с подругой, делившей с ней московское жилье, не брезгуя банальною услугой (верней — довольно жалобной потугой), мы вызвались сопровождать её.
Мы бегло познакомились дорогой, сказавши, что весьма увлечены. Она казалась сдержанной и строгой. Она происходила из Читы. Ее глаза большой величины (глаза неповторимого оттенка — густая синь и вместе с тем свинец)… Но нет. Чего хотите вы от текста? Я по уши влюбился, наконец.
Я стал ходить за нею. Вузы, туры… Дух занялся на новом вираже. Мне нравился подбор литературы — Щергин, Волошин, Чехов, Беранже… Я коечто узнал о ней. Мамаша её одна растила, без отца. От папы унаследовала Маша спокойный юмор и черты лица. Ее отец, живущий в Ленинграде, был литератор. Он владел пером (когда-то я прочел, диплома ради, его рассказ по имени "Паром"). Мать в юности была театроведом, в Чите кружок создать пыталась свой… Ее отец, что приходился дедом моей любимой, умер под Москвой. Он там и похоронен был, за Клином. Туда её просила съездить мать: его машина числилась за сыном, но надо было что-то оформлять… Остались также некие бумаги: какие-то наброски, чертежи… Короче, мать моей прекрасной Маши в дорогу ей возьми и накажи: коль это ей окажется под силу (прослушиванья раза три на дню), в один из дней поехать на могилу, взять документы, повидать родню…
Я повстречал отнюдь не ангелочка, чья жизнь — избыток радостей и льгот. У девочки в Чите осталась дочка, которой скоро должен минуть год. Отец ребенка вырос в детском доме и нравственности не был образцом. Она склонилась к этой тяжкой доле — и вследствие того он стал отцом. Он выглядел измученным и сирым, но был хорош, коль Маша не лгала. К тому же у него с преступным миром давно имелись общие дела. Его ловили то менты, то урки, он еле ускользал из западни, — однажды Машу даже в Петербурге пытались взять в заложницы они!
Он говорил, что без неё не может, что для него единственная связь с людьми — она. Так год был ими прожит, и в результате Аська родилась. Он требовал, он уповал на жалость, то горько плакал, то орал со зла, — и Маша с ним однажды разбежалась (расписана, по счастью, не была). Преследовал, надеялся на чудо и говорил ей всякие слова. Потом он сел. Он ей писал оттуда. Она не отвечала. Какова?
Короче, опыт был весьма суровый. Хоть повесть сочинять, хоть фильм снимать. Она была уборщицей в столовой: по сути дела, содержала мать, к тому ж ребенок… Доставалось круто. Но и в лоскутьях этой нищеты квартира их была подобьем клуба в убогом захолустии Читы. Да! перед тем, на месяце девятом, — ну, может чуть пораньше, на восьмом — она случайно встретилась с Маратом (она взмахнула в воздухе письмом). Он был студент, учился в Универе, приехал перед армией домой и полюбил её. По крайней мере Марату нынче-завтра уходить, а ей, едва оправясь от разрыва, сказать ему "Счастливо" — и родить! В последний вечер он сидел не дома, а у нее. Молчали. Рассвело… Мне это так мучительно знакомо, что говорить не стану: тяжело.
Она готовно протянула фото, хранившееся в книжке записной. Он был запечатлен вполоборота, перед призывом, прошлою весной. О, этот мальчик с кроткими глазами! Я глянул и ни слова не сказал. Он менее всего мечтал о заме, да и какой я, в самом деле зам!.. Я не желаю участи бесславной разлучника. Порвешь ли эту связь?.. Я сам пришел из армии недавно, — моя мечта меня не дождалась… По совести, я толком не заметил — любовь тут или дружба. Видит Бог, я сам влюбился. И поделать с этим я сам, казалось, ничего не мог.
…Добавлю здесь же, что она рожала болезненно и трудно: шесть часов, уже родивши, на столе лежала, не различая лиц и голосов. Все зашивали, все терпеть просили… Держалась, говорили, хоть куда. На стол ей даже кашу приносили (чуть-чуть), — да уж какая там еда!
Была в ней эта трещинка надлома, какая-то мучительная стать — вне жалости, вне пристани, вне дома… И рядом, кажется, а не достать. И некая трагическая сила, сознание, что все предрешено, — особенно, когда произносила строку "Тоска по Родине. Давно…" И лик — прозрачный, тонкий, синеокий, — и этот взгляд (то море, то зима), и голос — то высокий, то глубокий, надломленный, как и она сама…
Ухаживал я, в общем, ретроградно, традиционно. Мелочь, баловство. Таскал её на вечер авангарда, где сам читал (сказала: "Ничего."). Потом водил на свадьбу к полудругу, где поздравлял подобием стиха беременную нежную супругу и юного счастливца-жениха. Она сказала: "Жалко их, несчастных" — "Ты что?!" — спросил я тоном дурака. "Ты погляди на них: тоска, мещанство!" Я восхитился: как она тонка!
Притом в ней вовсе не было снобизма: то было просто острое чутье. Довесть могла бы до самоубийства такая жизнь — но только не её. Искусство, книги иль друзья спасали? Скорее, не спасало ничего: воистину, спасаемся мы сами непостижимым чувством своего. но с этой вечной сдержанностью клятой, с её угрюмым опытом житья не знал я, кем казался: спицей пятой или своим, как мне она — своя? Любови не бывают невзаимны, как с давних пор я про себя решил, но говорил я с робостью заики, хотя обычно этим не грешил. Однажды, в пору ливня грозового, хлеставшего по лужам что есть сил, я — как бы в продолженье разговора — её приобнял… тут же отпустил… Мы прятались под жестяным навесом, в подъезд музея так и не зайдя, и, в подражанье молодежным пьесам, у нас с собою не было зонта.
Она смеялась и слегка дрожала. Я отдал ей, как водится, пиджак, — все это относительно сближало, но как-то неумело и не так. Она была стройна и тонкорука, полупрозрачна и узка в кости… Была такая бережность и мука почти не прикасаться (но — почти!..).
Однажды как-то в транспортной беседе, как и обычно, глядя сквозь меня, она сказала, что назавтра едет в поселок, где живет её родня. Я вызвался не слишком представляя, что это будет, — проводить и проч.
— Да я сама-то там почти чужая — ещё вдобавок гостя приволочь!
А я усердно убеждал в обратном: мол, провожу, да и не ближний свет. Но чтобы это странствие приятным мне представлялось — однозначно нет. Тащиться с ней, играя в джентльмена, куда-то в дом неведомых родных, — сомнительная, в сущности, замена нормально проведенных выходных. Но чтоб двоим преодолеть отдельность, почувствовать родство, сломить печать, — необходимо вместе что-то делать, куда-то ехать, что-то получать. На это я надеялся. Короче, в зеленой глубине её двора, у "запорожца" цвета белой ночи я дожидался девяти утра.
В Чите ей мать, конечно, рассказала, как добираться, — но весьма темно. Сперва от Ленинградского вокзала до станции — ну, скажем, Чухлино. От станции — автобусом в поселок, а там до кладбища подать рукой, где рода их затерянный осколок нашел приют и, может быть, покой.
Цветы мы покупали на вокзале. Опять же выбор требовал чутья. Одна старушка с хитрыми глазами нам говорила, радостно частя: "На кладбище? На кладбище? А ну-ка, — и улыбалась, и меня трясло, — возьмите вот пионы. Рубель штука. Вам только надо четное число."
Ну что же! Не устраивая торга, четыре штуки взяли по рублю… Я нес букет, признаться, без восторга. С рожденья четных чисел не люблю.
— А на вокзале ест буфет?
— Да вроде… Но там еда…
— Какая ни еда. Весь день с утра живу на бутерброде. Причем с повидлом.
— Ну, пошли тогда!
Мне очень неприятен мир вокзала. Зал ожиданья, сон с открытым ртом, на плавящихся бутербродах — сало… Жизнь табором, жизнь роем, жизнь гуртом, где мельтешат, немыты и небриты, в потертых кепках, в мятых пиджаках, расползшейся страны моей термиты с младенцами и скарбом на руках. Вокзал, густое царство неуюта, бездомности — такой, что хоть кричи, вокзал, где самый воздух почему-то всегда пропитан запахом мочи… Ты невиновен, бедный недоумок, вокзальный обязательный дурак; невиноваты ручки старых сумок, чиненные шпагатом кое-как; заросшие щетиной поллица, разморенные потные тела — не вы виной, что вас зовет столица, и не её вина, что позвала. Но как страшусь я вашего напора, всем собственным словам наперекор! Мне тяжелей любого разговора вокзальный и вагонный разговор. Я человек домашний — от начала и, видимо, до самого конца…