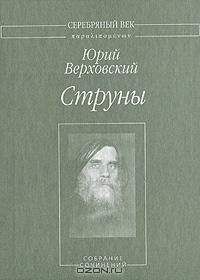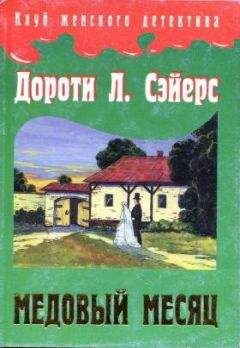Александр Житинский - Плывун
Она выключила телефон и спрятала его в сумку.
— Владимир Николаевич задерживается… Будет поздно… — со значением выговорила она. — Я удивляюсь его здоровью. В его годы столько пить…
Последние слова были обращены скорее к Ларисе Павловне, с интересом наблюдавшей, чем закончится дело.
— Да-да, хронический алкоголизм… С молодости, — подтвердила она диагноз.
Серафима бесстрастно выжидала, не переставая гладить котенка.
Спускавшиеся сверху по лестнице обитатели бизнес-центра косились на них, стараясь понять, что происходит. В воздухе пахло скандалом, но скандала не было видно.
Софья подхватила сумочку и, демонстративно попрощавшись с одной Ларисой Павловной, покинула вестибюль. Это тоже не произвело на Серафиму ни малейшего впечатления.
Она принялась хлопотать по хозяйству, как бы обустраивая новое жилище, какое ни на есть. Для начала Серафима возвела стены из книг — это были в основном стандартные картонные коробки из-под офисной бумаги, а также перевязанные шпагатом пачки. Они были довольно тяжелы, но Серафима увлеченно ставила их одну на другую, пока не построила стену в пять рядов — больше было опасно, стена теряла устойчивость из-за наклона пола. Высота стены составила примерно полтора метра, причем ее оконечность, примыкавшая к лестничному пролету, была выложена ступеньками. На них Серафима поставила вазу, будильник, бутылку вина с бокалами и остановилась в растерянности, ибо больше украшать было нечем.
На помощь пришли бывшие соседи. Сначала вернулся домой со своей кафедры аспирант Браткевич и, заметив строительство, электрифицировал новое жилище, разыскав удлинитель и розетку, а на письменный стол поставил лампу со стеклянным круглым абажуром, какие были в моде в середине прошлого века. Лампа загорелась и осветила странную, но почему-то уютную квартирку со стенами из книг, причем и стены, и пол, и потолок имели наклон, что стало особенно заметно, когда Браткевич подвесил к потолку принесенные Диной висячие металлические трубки, которые мелодично звенели, когда их тревожило дуновение воздуха. А оно возникало каждый раз, как только кто-то входил с улицы в вестибюль.
Дина появилась вслед за аспирантом, окинула жилище взглядом и без лишних слов принесла несколько украшений — статуэтку из черного дерева, репродукцию Сарьяна и китайские шахматы из слоновой кости. Все это она с отменным вкусом разместила на картонных коробках, после чего уголок вестибюля стал напоминать инсталляцию с выставки современного искусства.
Конечно, Дина перво-наперво попыталась вмешаться в ход событий, советуя вызвать милицию и водвориться на прежнее место с помощью сил правопорядка. Но Серафима остановила ее, сказав, что Владимир Николаевич этого не хочет.
— Почему же? — спросила Дина.
— Я думаю, потому, что это нарушило бы естественный ход событий, — сказала Серафима загадочную фразу.
Дина взглянула на нее с интересом, но промолчала. Зато Лариса Павловна, слышавшая все разговоры, не преминула заметить:
— Естественный ход ему сейчас в тюрьму за вредительство. Что он с домом сотворил!
После этих слов Лариса Павловна удалилась, уступив место своему сменщику, студенту Боре, подрабатывающему ночными дежурствами.
Было уже восемь вечера. Пирошников не появлялся, вестибюль опустел, верхние огни выключили, лишь горела зеленая лампа в огороженном книгами пространстве и светился экран телевизора.
Серафима читала стихи, восполняя пробелы в образовании.
Это ничего, что он тебе далекий,
Можно и к далекому горестно прильнуть
В сумерках безгласных, можно и с далеким,
Осенясь молитвой, проходить свой путь.
Это ничего, что он тебя не любит,—
За вино небесное плата не нужна.
Все мы к небу чаши жадно простираем,
А твоя — хрустальная — доверху полна.
Про тебя он многое так и не узнает,
Ты ему неясная, но благая весть.
Позабыв сомнения, в тихом отдалении
Совершай служение. В этом все и есть.
И Серафима уснула в кресле, положив на колени котенка.
Разбудил ее мелодичный звон трубок, висевших над каморкой. Она открыла глаза и поначалу не поняла — где она находится. Слабо светили лампы по стенкам, блестел мраморный пол, в будке вахтера, уронив голову на столик, спал охранник.
Посреди этого полутемного вестибюля стоял Пирошников в распахнутом плаще и шляпе, а в руке у него была гитара.
Глава 17. Изгой
Он стоял, вглядываясь в тот угол, где горела накрытая какой-то тряпкой, быть может, просто наволочкой, лампа под зеленым абажуром, а дальше в углу угадывалась фигурка женщины в домашнем легком костюме, полулежащая с ногами в просторном бархатном кресле. Это напоминало декорацию какого-то не поставленного чеховского спектакля, в котором ему надлежало сыграть роль, но какую — он не знал. Он силился вспомнить реплику, но не мог, потому сказал глухо:
— Кто это сделал, лорды?
Он знал, кто это сделал, но хотел насладиться горечью. Трубочки продолжали петь еле слышно.
— Да-ни-люк… — нараспев отозвалась Серафима.
— Не это, нет! Не дерзкое изгнанье, не дикое глумление толпы, — Пирошников почувствовал, что пятистопный ямб белого стиха наиболее соответствует ситуации. — Я говорю об этом чудном месте, где мы с тобою умиротворимся и затворимся, убежав от мира… Офелия!
И он обвел декорацию широким жестом.
Ночной студент Боря пробудился и, оторвав голову от стола, с изумлением и тревогой вслушивался в ямбы Пирошникова.
Серафима в восторге задрыгала ногами, оставаясь лежать в кресле, но ответить полной строкой не смогла, а лишь выдохнула, смеясь:
— Да, Гамлет!
Пирошников твердым шагом направился к уютному гнездышку из книг, но именно твердость поступи выдавала, что он изрядно пьян, не говоря о наклоненном поле. Его качнуло, и он едва не развалил зыбкую книжную кладку Серафимы, но она вовремя бросилась ему навстречу и, подхватив под руку, довела до кресла.
Пирошников водрузился на мягкие подушки и огляделся.
Вопреки своему намерению вдоволь испить страдания, он вдруг почувствовал, что ему нравится этот закуток, огороженный знакомыми книгами, которые теперь, покинув полки и будучи перевязанными шпагатом, напомнили ему детство, когда семья часто переезжала из-за новых назначений отца и вид упакованных книг и сдвинутой мебели был привычен.
Скорее даже не переезды напомнила ему Серафимина декорация, а те заветные места в квартире, где маленький Пирошников устраивал свои норки, чтобы прятаться там от суеты и волнения жизни. Это был старый платяной шкаф, погибший позже в одном из переездов, и небольшое пространство за черным немецким пианино, где Пирошников читал книги. Это было уже в отрочестве, в Севастополе, когда его кратковременно принялись обучать игре на фортепьяно, но ничего путного из этого не вышло, обучение продлилось всего два года, до нового переезда семьи, хотя и позволило Пирошникову достичь своего потолка музицирования в виде «Осенней песни» Чайковского, которую отрок исполнял с самозабвенной печалью.
Кстати, сейчас тоже была осень, и тротуары вокруг наклоненного дома облеплены были мокрыми упавшими листьями.
Впрочем, Пирошников стряхнул с себя сентиментальные воспоминания и заявил, что хочет есть, а затем, открыв бутылку вина, принялся рассказывать Серафиме о своих похождениях. Она в это время готовила чай с бутербродами.
А причиной неожиданного загула Пирошникова послужила встреча со старинным приятелем Олегом Метельским, которого Владимир Николаевич не видел лет тридцать и не узнал бы никогда, если бы Олег его не окликнул, когда Пирошников проходил мимо по второму этажу «Крупы», как звали все питерские книжники оптовую книжную ярмарку в ДК им. Крупской.
Снилось ли когда-нибудь Надежде Константиновне, что она превратится в книжную ярмарку и звать ее будут так же, как всегда ласково называл ее Ильич?
Итак, Олег узнал своего постаревшего приятеля и напомнил ему, когда и при каких обстоятельствах им доводилось встречаться. Когда-то, в пору второго студенчества уже отслужившего в армии Пирошникова, они вместе входили в вокально-инструментальный ансамбль «Невские гитары». Олег играл на ритм-гитаре, а Пирошников — на басу. Его музыкального образования хватало на четыре струны.
Впрочем, и на шестиструнке Пирошников в ту пору тоже пробовал играть.
Это продлилось недолго, до очередного и уже окончательного отчисления Пирошникова, на этот раз по его собственному желанию, поскольку он убедился, что техническое образование ему не нужно, а гуманитарные наклонности он разовьет самостоятельно. Он тогда много читал стихов, мемуаров, пробовал писать сам; промелькнувшая оттепель задела его своим крылом, говоря фигурально, и заставила слегка воспарить. Впрочем, невысоко.