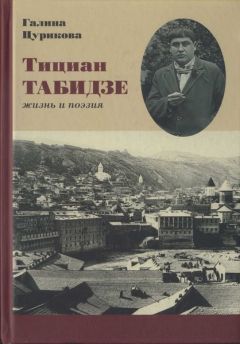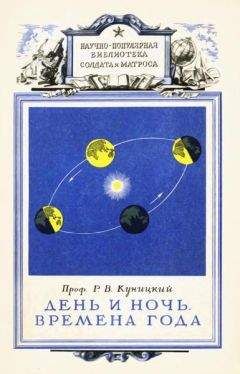Галина Цурикова - Тициан Табидзе: жизнь и поэзия
Один из друзей Тициана впоследствии сравнивал Тифлис того времени с «Фантастическим кабачком» (так называлось одно из самых экстравагантных литературных кафе).
Тициану Табидзе Тифлис виделся балаганом.
Идет запутанная, темная игра: обделываются тайные дела, плетутся интриги, ширится стихия спекуляции и разврата. В кружении зловещей карусели мелькают представители Антанты и бежавшие из России профессора, политики, знаменитые художники и музыканты, поэты, балерины, исполнительницы цыганских романсов, дамы из общества и проститутки…
На забаву иностранцам воскрешалась экзотика — пили вино из рога!
Тюрьмы были переполнены. Расстреливали большевиков и дезертиров.
Пахло порохом и кокаином.
Все это напоминало пляску на просыпающемся вулкане.
…его пугала невидимая пропасть под ногами.
Русская поэтесса Нина Лазарева, жившая в те годы в Тифлисе, в 1918 году посвятила Тициану Табидзе стихи, в которых называла его «царем», но сравнивала с загнанным зверем. «Царь и ребенок, заклейменный крестом Халдеи», — скажет о нем Паоло Яшвили в своем стихотворном послании.
Сам Тициан себя назовет «королем халдейского балагана».
Он тот же — Пьеро. Но впервые с такою пристальностью он вглядывается в себя, уже не придумывая себе поэтической «маски», как прежде бывало, не нагнетая скорбных переживаний; теперь его трагическое мироощущение стало совсем реально. «Пьеро» — не поза; он — то, что иногда называют «лирический герой»: объективированное авторское «я», наделенное цельностью характера, личности, судьбы…
Образ поэта.
«Ну, старая кляча, пойдем ломать своего Шекспира!» (Кин)
В этих словах, которые Блок взял эпиграфом к стихотворению «Балаган», Тициан ощущал свое состояние — привычной усталости: театральщины, утомительно вросшей в жизнь, дешевой, банальной, вечной…
Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган.
Лицо дневное Арлекина
Еще бледней, чем лик Пьеро.
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, сшитые пестро…
Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!
В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.
Нельзя сказать, что эти старые блоковские стихи, давно известные Тициану, вдруг стали для него образцом, поэтическим руководством, — просто они отвечали его настроению в данный момент. Он умел жить стихами, он вживался в стихи и не мог уже сбросить с себя лохмотья «ходячих истин», уйти из этого «театра», как он ушел из армейского строя во время парада.
Пьеро — «двойник» поэта, в душе которого живет память о прежнем, ином существовании; его тревожит мистика необъяснимых предчувствий и мелкая проза будней, в которой он тонет.
Тема блоковская — заново и по-своему пережитая.
У Блока — в «Ночной фиалке»:
Был я нищий бродяга,
Посетитель ночных ресторанов,
А в избе собрались короли;
И запомнилось ясно.
Что когда-то я был в их кругу
И устами касался их чаши…
У Тициана Табидзе:
«И знаю я, откуда я пришел, какой страны горячее солнце жгло меня, у меня был великий предшественник, на Спасителя был похож». Так начинается стихотворение, написанное еще в конце 1917 года, «Король балагана»:
…Когда не пою — на душе моей радость.
Не хочу судить современников строго,
Старинных заветов запомнил я святость
И люблю молиться забытому богу.
Жонглера звездами, мага-поэта,
Вспоминаю песни ночью я чутко.
Просыпаюсь в огнях ресторанного света.
Мне в петлицу приколет нарцисс проститутка.
Хрипло стонет вблизи оркестр исступленный,
Негр хмельной танцует, шатаясь.
Я, изорванный весь, я, пристыженный,
Позвонив, бегу, от лакеев скрываясь.
Так, быть может, умру я, король балагана.
Королем я был на земле неизменно.
Не забудьте поэтов, что умерли рано,
Что о боге томились смиренно.
Этот наивный и негладкий, в ту далекую пору созданный перевод Татьяны Вечорки передает настроение оригинала вернее, чем выразительно-чеканный и неточный перевод П. Антокольского:
А в диком оркестре всё трубы хрипят,
Всё пьяные негры кричат.
Оборван и нищ с головы и до пят.
Кабацкий покину я чад…
Он из тех — блоковских «королей».
Пусть не обманет нас кажущаяся бытовая конкретность стихотворения, — это не о кабацкой «романтике»: Тициан — отнюдь не «грузинский Есенин» с его «забубенной славой», с его обнажающей душу лирической откровенностью и тоской. Здесь тоска — иная.
Жизнь — балаган. Он — король балагана: поэт! Помня древние, святые поэтические заветы, он «молится забытому богу», не боясь показаться несовременным, не желая уподобиться современникам. «Король балагана» не забыл солнечных песнопений, посвященных ослепительной, далекой Халдее. Но все вдруг изменилось. Еще недавно он видел свою Халдею в недосягаемой дали, сейчас он видит ее — сквозь кабацкий чад и продажную ласку, оглушенный хриплой музыкой балагана. Прошлое навязывает свой знакомый сюжет:
О родина, смотрю я на тебя
Из сумерек партера.
Мой старый балаган, с тобою снова я —
Бродяга и актер.
От выцвета души твоей не защитили
Ни пестрая фанера,
Ни холст цветной — всё солнцем беспощадно
Расстреляно в упор.
Еще стекаются с актерами фургоны.
Раскрашенные, в блестках,
Сидят фигляры, фокусники, маги;
Борцы шагают в рост.
О братья милые, сегодня с вами я
Сыграю на подмостках.
Поставим «Душу» мы. Старинный этот фарс
Возобновим для звезд…
«Актерами возобновления» называли себя поэты-голуборожцы в первых своих манифестах. Тициан несет это знамя. Но блекнут краски спектакля. Стихотворение «Халдейский балаган» — о том, что происходит вокруг.
Интересно, что эти стихи начинали складываться давно, в Москве еще, — вспомним письмо к Валериану Гаприндашвили от 2 января 1917 года: «Стены моих „Халдейских городов“ растут. Стою я средь пурги: идут жонглеры, фокусники, царицы, старые мастера и конквистадоры. Когда города построятся…» — фраза на этом оборвана. Стихотворение «Халдейский балаган» датировано 22 апреля 1918 года. Манящие издали стены «Халдейских городов» при ближайшем рассмотрении оказались из цветного холста и фанеры.
«Фарс», разыгранный в «балагане», отнюдь не предполагает непременного «разоблачения», это всего лишь обозначение жанра, некогда популярного у бродячих актеров; на балаганных подмостках, среди убогих, истрепанных временем декораций, возобновляется представление вечное, священное — о душе человеческой!
Образ самого певца наполнился новым лирическим содержанием.
В поэзии Тициана Табидзе нет градаций между лирикой и эпосом; личное от исторического не может быть отделено — для поэта оно всё едино; лирика — тот же эпос, бесконечно приближенный, проникающий в душу:
…Пусть о Тамаре, троице святой,
О благости старинной
Расскажет летописца Грузии
Правдивое перо.
А я, склонясь над плачущей моей
Подругой Коломбиной,
Лишь звездам расскажу о ней слезами,
Как преданный Пьеро.
Всегда с тобой рыдать я буду, Коломбина!
И правдой наших слез
Не смыть румян твоих, что положил жестокий
Гример — туберкулез.
Фарс о «душе», разыгранный на грубых дощатых подмостках, в жизни поэта был настоящей драмой.
Что может быть поэтичного в туберкулезе?
«Тициан был очень расстроен и водил ко мне всех врачей, каких только знал, — вспоминает Нина Макашвили. — А Паоло так нежно и рыцарски любил Тициана, что как умел старался ему помочь: Паоло наполнял мою комнату цветами, пил вместе со мной лекарства, которые я не хотела пить, он даже вместе со мной давал себе делать впрыскивания — лишь бы я согласилась лечиться. А Тициан в это время смущенно сидел на стуле…
Мама рассказывала потом, что когда она увидела их двоих в моей комнате — Паоло и Тициана: один держался молодцевато, высоко поднимая голову, и говорил много, а другой сидел молча и голову совсем опустил, — она сразу догадалась: этот влюблен и посватается.