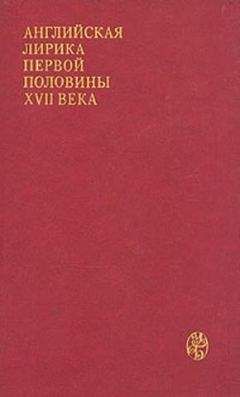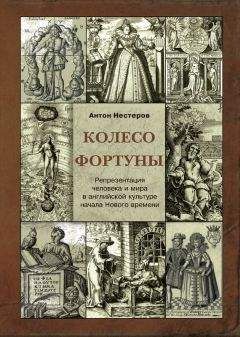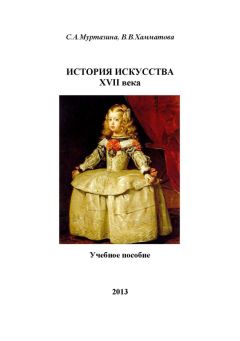Дмитрий Бак - Сто поэтов начала столетия
Сущностные события прошлого, имеющие продолжение в настоящем, могут скрываться в самых обыденных мелочах, важно их правильно отобрать, просеять сквозь сито памяти. Это непросто, прежде всего, потому, что в моменты интуитивных проникновений в ушедшую жизнь в ней видится не избранное, а абсолютно все:
всё разом – вещи в коридоре
отъезд и сборы впопыхах
шесть вялых роз и крематорий
и предсказание в стихах
другие сборы путь неблизок
себя в трюмо а у трюмо
засохший яблока огрызок
се одиночество само…
Знаменитая по прежним стихам Гандлевского, фирменная его изысканная точность деталей, напоминающее об акмеистической поэтике полное совпадение слов и обозначаемых ими вещей и событий – все это в данном случае способно сыграть злую шутку. Припоминание и описание буквально всего в прошлом может породить тягостную тотальность; не в его власти помочь извлечению ясной, по-мандельштамовски «кристаллической» ноты-эмоции, от подобного воспоминания впору лишь отмахнуться:
обоев клетку голубую
и обязательный хрусталь
семейных праздников любую
подробность каждую деталь
включая освещенье комнат
и мебель тумбочку комод
и лыжи за комодом – вспомнит
проснувшийся и вновь заснет
Воспоминание, его, как сказано почти два столетия тому назад, тягостно разворачивающийся в ночи длинный свиток – магистральная тема Гандлевского. Причем в стихах последнего десятилетия (по крайней мере, опубликованных) это напряженное раздумье-припоминание почти напрочь вытесняет все иные возможные способы лирического освоения жизни.
Очкарику наконец
овчарку дарит отец.
На радостях двух слов
связать не может малец.
………………………
Почему они оба – я?
Что общего с мужиком,
кривым от житья-бытья,
у мальчика со щенком?
Модальность соотношения прошлого и настоящего у Гандлевского – величина переменная. Один из вариантов – несоответствие былых ожиданий и наличной реальности:
Мне нравится смотреть, как я бреду,
Чужой, сутулый, в прошлом многопьющий,
Когда меня средь рощи на ходу
Бросает в вечный сон грядущий.
………………………………………………
И сам с собой минут на пять вась-вась
Я медленно разглядываю осень.
Как засран лес, как жизнь не удалась.
Как жалко леса, а ее – не очень.
Порою несоответствие дней нынешнего и минувшего заостряется у Гандлевского до предела, доходит до точки кипения, и это – рискнем предположить – очень сильные, но не самые запоминающиеся строки поэта. Конечно, все лучшее – в прошлом, там молодость, там живы родители, там первые радости любви:
Синий осенний свет – я в нем знаю толк как никто.
Песенки спетой куплет, обещанный бес в ребро.
Казалось бы, отдал бы все, лишь бы снова ждать у метро
Женщину 23-х лет в длинном черном пальто.
Но все же гораздо более «гандлевскими» являются случаи, когда воспоминание о прошлом не просуществовало целые десятилетия незыблемым, но изменилось, а теперь, по прошествии времени, оно должно возникнуть вновь, преодолевая период забвения и отчуждения, а то и отрицания:
Мама маршевую музыку любила.
Веселя бесчувственных родных,
………………………………
Моя мама умерла девятого
мая, когда всюду день-деньской
надрывают сердце «аты-баты» –
коллективный катарсис такой.
Мама, крепко спи под марши мая!
Отщепенец, маменькин сынок,
самого себя не понимая,
мысленно берет под козырек.
Казенные бравурные мелодии, связанные с временами пионеров и комсомольцев, набили оскомину, режут слух, но эти (как сказано в другом стихотворении Гандлевского) «спичечные марши» по прошествии лет вызывают в памяти не праздничные парады, а проблески воспоминаний о матери, потому-то диссидент-отщепенец, «самого себя не понимая», делает стойку «на караул».
Еще более таинственными являются случаи полного соответствия былых желаний и наличных реалий. Здесь уже речь не о нетленности первой любви и не о необходимости преодоления высокомерия по отношению к собственному прошлому и к самому себе в этом прошлом. На первый план выходит другое: отдельные наши интуитивные предощущения либо сознательно выстроенные «планы на жизнь» с самого начала оказываются воплощенными, не нуждаются ни в воскрешении, ни в переосмыслении. В пору отрочества Сергея Гандлевского принято было поощрять мечты о профессиях космонавта или полярника. А вот писателем – слабо захотеть вырасти?! Мальчик Сережа, например, пожелал стать как раз таки поэтом – и вот вам, нате-пожалуйста:
Первый снег, как в замедленной съемке,
На Сокольники падал, пока,
Сквозь очки озирая потемки,
Возвращался юннат из кружка.
……………………………………
И юннат был мечтательным малым –
Слава, праздность, любовь и т. п.
Он сказал себе: «Что как тебе
Стать писателем?» Вот он и стал им.
Чудо отождествления времен у Гандевского лишено пафоса, пророческого подтекста, прямой связи с нравственными либо эстетическими категорическими императивами. Здесь вообще нет никакой императивности, неизбежности: на то оно и чудо, чтобы случаться по темной воле провиденциального случая и длиться долго-долго, в масштабах одной отдельно взятой человеческой жизни – всегда.
Ни сика, ни бура, ни сочинская пуля –
иная, лучшая мне грезилась игра
средь пляжной немочи короткого июля.
Эй, Клязьма, оглянись, поворотись, Пахра!
Исчадье трепетное пекла пубертата
ничком на толпами истоптанной траве
уже навряд ли я, кто здесь лежал когда-то
с либидо и обидой в голове.
Твердил внеклассное, не заданное на дом,
мечтал и поутру, и отходя ко сну
вертеть туда-сюда – то передом, то задом
одну красавицу, красавицу одну.
Вот, думал, вырасту, заделаюсь поэтом –
мерзавцем форменным в цилиндре и плаще,
вздохну о кисло-сладком лете этом,
хлебну того-сего – и вообще.
Потом дрались в кустах, еще пускали змея,
и реки детские катились на авось.
Но, знать, меж дачных баб, урча, слонялась фея –
ты не поверишь: все сбылось.
Здесь чудо отождествления времен явлено в материи весьма низкой, неизысканной, воплощено в страданиях молодого «пубертата», и это очень важно для поэтики Гандлевского. Дух веет, где хочет, стихи растут из известных всем неблагообразных сред – этим нельзя управлять, невозможно подвергать анализу. Всего только и необходимо – тщательно и честно воспроизвести главное из прошлых дней, запавшее в память, вопреки позднейшим прозрениям и разочарованиям, в соответствии с эстетическим ракурсом критического сентиментализма. Именно этим на протяжении многих лет и занимается русский лирик Сергей Гандлевский.
БиблиографияДва стихотворения // Знамя. 2000. № 1.
Два стихотворения // Знамя. 2000. № 9.
Порядок слов: стихи, повесть, пьеса, эссе. Екатеринбург: У-Фактория, 2000. 431 с.
Два стихотворения // Знамя. 2001. № 12.
Двадцать девять стихотворений. Новосибирск: Артель «Напрасный труд», 2001.
Найти охотника: Стихотворения. Рецензии. Эссе. СПб.: Пушкинский фонд, 2002. 218 с.
Два стихотворения // Знамя. 2004. № 1.
Синий свет: Стихи // Новый мир. 2005. № 6.
Два стихотворения // Знамя. 2006. № 1.
Четыре стихотворения // Знамя. 2007. № 1.
«Ни сика, ни бура, ни сочинская пуля…» // Знамя. 2007. № 5.
«О-да-се-вич?» – переспросил привратник…» // Знамя. 2007. № 7.
«Очкарику наконец…» // Звезда. 2007. № 12.
Некоторые стихотворения: новые и избранные. СПб.: Пушкинский фонд, 2008. 48 с.
Опыты в стихах. М.: Захаров, 2008. 160 с.
Два стихотворения // Знамя. 2009. № 1.
Стихотворения. М.: Астрель, Corpus, 2012.
Марианна Гейде
или
«Ночью коридор становится вдвое длинней…»
Необходимо сказать сразу и с последней прямотой: Марианне Гейде подвластно в словесном ремесле очень многое – мало кому иному доступное. В ее стихах – один и тот же, с полуслова узнаваемый строгий и мощный порыв за пределы обыденного видения, прочь от привычных контуров самоощущения и восприятия внешней стороны вещей. Провидеть мир до себя и без себя, присвоить зыбкую интуицию чувства, освобожденного от персонального носителя, звука – самого по себе, никаким материальным предметом не исторгнутого и ничьим ухом не уловленного.
как прелый виноград, не смогший стать вином,
как блеклый мусор, недозревший в почву,
как – кто как виноград, не смогший стать вином?
кто – блеклый мусор, недозревший в почву?
Я? Нет. Мы? Нет. Какие-то они?
Их нет, и нас, меня – всё нет,
есть прелый виноград, не смогший стать вином,
есть блеклый мусор, недозревший в почву,
и несравненны, и неповторимы,
как слово, сказанное мимо
ушей, как бы вода, ушедшая
из походя разбитого кувшина.
так – правда честно выживших вещей,
так несравнен и так неповторим
от стынущей воды отходит дым,
и смотрит вверх,
и задыхается в чужую спину.
Слово, сказанное «мимо ушей» и не вымолвленное ничьими устами, – к чему оно? Что чувствует тот, кто внимает именно таким – темным и внятным одновременно – словам? На этот вопрос нет и не может быть ясного ответа. Точнее говоря, никто не может дать ответа, не услышав вопрос, а стихотворение Гейде почти всегда начинается в той точке, в которой невозможна сама постановка вопроса. Все в мире – так, вопреки тому, что возможны двунадесять объяснений происходящего с разных точек зрения, на уровне обыденного сознания имеющих разные градусы обоснованности, а на деле – лишенные как причинных предпосылок, так и рационально объяснимых знаков воздействия на реальность.