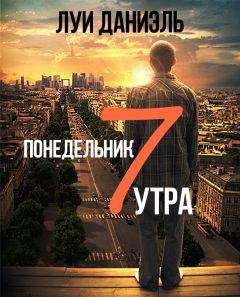Александр Амфитеатров - Отравленная совесть. Роман
Колеблясь в волнениях — то готовая и счастливая умереть, то боясь смерти, как непостижимого прожорливого чудовища с черною, широко разверстою в жадном ожидании пастью, Людмила Александровна сама не знала, вставая утром с постели, будет ли она жива к вечеру; ложилась в постель ввечеру, не уверенная, что «одр не станет ей гробом». Жажда смерти подсказывала ей десятки планов, как легче, хитрее, искуснее убить себя, а жажда жизни горячо и насмешливо оспаривала все планы, доказывая их нелепую прозрачность: как все догадаются, из-за чего она покончила с собою, как выяснится связь между смертью ее и Ревизанова, и будет опозорена ее память, и на семью ее все-таки ляжет то самое пятно, от которого с таким самоотвержением защищала ее Людмила Александровна, чтобы избежать которого она и убила Ревизанова… И все-таки чем дальше длилась борьба, тем чаще и яснее победа оставалась за приманкою смерти. Так в зверинце кролик, брошенный в клетку боа, цепенеет под его взглядом и — любя жизнь — против воли тянется, однако, весь дрожащий, к чарующему его змею, упирается, но идет к нему — с отчаянием, шаг за шагом, пока не исчезает в его голодной пасти. Из всех планов воображение Людмилы Александровны приковалось сильнее всего к одному: возвращаясь в Москву, она постарается, на ходу поезда, упасть под колеса так, чтобы все приняли ее падение за несчастный случай, чтобы не возникло никаких толков о самоубийстве. До отъезда оставалось двое суток. Страх смерти не смягчался в сердце Верховской: оно было стеснено, словно совсем перестало разжиматься. Но решимость умереть держалась твердо. Загробная бездна и пугала, и манила — но уже больше манила, чем пугала…
XXII
Поздно вечером, в канун отъезда Людмилы Александровны из деревни, Елена Львовна получила залежавшиеся на станции московские газеты.
— Ах, какой ужас! Чем кончил! Чем кончил! — воскликнула она, едва развернув «Русские ведомости» и просматривая первую же заметку московской хроники.
— В чем ужас? Кто кончил? — хрипло отозвалась Верховская, едва шевеля побелевшими губами: она поняла, что тетка нашла что-нибудь о смерти Ревизанова…
Елена Львовна прочла вслух довольно подробный отчет… У Верховской застучало в висках: отчет показался ей — подробно знающей, как в действительности было дело, — вдвое обстоятельнее, чем составил его репортер. Преступление считалось несомненно преднамеренным — газета называла его «тонко обдуманным делом ума и рук, закаленных в привычке к преступлению».
«Я пропала! Как много они уже знают! столько нитей оставлено, чтобы узнать все остальное!» — думала Верховская, страдальчески хмуря темные, мрачно сведенные одна к другой брови.
— Как ты бледна! — заметила Елена Львовна, передавая племяннице газету, — да и как не побледнеть?! Словно призрак из старого, забытого прошлого пронесся перед глазами. И в какой обстановке! Это страшно, Людмила! Дурной он был человек, а все же жаль… Упокой Господь его грешную душу! А земле он больше ничего не должен: за все расплатился своею кровью…
Верховская не слушала, приковавшись глазами к postscriptum'у отчета.
«Подозрение лиц, близких покойному, предугадывает виновницу этого, небывалого по дерзости, убийства в особе, довольно известной кругу наших спортсменов, как звездочке, одновременно освещающей горизонты местного цирка и demi monda» [22]… Особа эта пользовалась до последнего времени благосклонностью покойного, но за несколько дней до убийства между ними произошла крупная ссора, завершившаяся полным разрывом. Таким образом, мы, по-видимому, имеем в перспективе дело с интересною романической подкладкой. Подозреваемая узнана швейцаром отеля и уже арестована.
Итак, за нее может ответить другая женщина? Стоит ей промолчать, и эта… кто она? Верховская даже имени не знала, кого судьба бросает, вместо нее, под меч закона! — и эта незнакомка займет ее место на скамье подсудимых. Как все удобно и хорошо слагается! И снова, впервые после ночи убийства, — несчастной, безумной, преступной женщине вздохнулось широко и легко, точно волна в нее хлынула!.. Но вздохнула — и задохнулась вздохом… Молчать? Но ведь теперь молчать будет новым преступлением и хуже, в тысячу раз хуже первого. Ревизанова она убила по праву… нет, не по праву: права убивать ближнего нет у человека… Но если не по праву, то по естественному инстинкту — в отмщение за злую вину — и какую! Больше чем он, не может быть виноват мужчина перед женщиною.
«Он нападал — я защищалась. Он сулил сделать мне всякое зло, на какое способна любовь, обратившаяся в ненависть, и сделал. Он осквернил меня, поработил, оторвал от семьи, от детей… Его стоило убить, да и то я убила, лишь выведенная из себя до последнего, лишенная всякого самообладания, не помня себя, в отчаянии, потеряв самосознание, почти озверенная… А тут… сознательно предать на суд, позор и, может быть, осуждение невинную! Я даже не знаю, я никогда не видала ее, я даже имени, имени ее не знаю! Послать на страдание первую встречную — хладнокровно, без всякой вражды и злобы… Только потому, что пусть лучше другая страдает, чем я… Какая гадость! Какой жестокий звериный эгоизм!»
И то стыд делался в ней сильнее страха, то страх сильнее стыда. Она, как герой скандинавской сказки, стояла в бессильном раздумье, слушая, как две птицы — черная и белая — поют ей песни: одна злую, другая добрую; одна — учит самосохранению, другая — долгу и человеколюбию. Черная птица ей пела:
— Завтра ты умрешь… Страшнее смерти нет ничего на свете, но и у нее есть доброе качество: она все заглаживает и искупает. Кто умер, тот прав. Ты умрешь и тоже будешь права: ты расплатилась за себя. Неужели ты думаешь — твоя смерть недостаточная цена для выкупа и прежнего, и нового позора? Ведь не убьют же ее, эту незнакомку: ну, накажут, сошлют, да и то еще объяснят убийство ревностью, аффектом, смягчат приговор, пожалуй, еще совсем оправдают… Да если и осудят, все-таки жизнь-то, жизнь ей останется, жизнь, что всего дороже; а ведь ты умрешь. Неужели этого мало? Полно! это самоискушение! это бред!
Белая птица возражала:
— Все так. Но зачем же ты сама-то предпочитаешь даже смерть той жизни, какая ждет эту несчастную? Зачем тогда умирать: живи, как придется жить ей, и наслаждайся этой жизнью. Или, по твоему суждению, жизнь бесчестная для тебя — годится для нее? Ведь она — пишут газеты — падшая: камелия, самка, тварь… И вот ты, счастливая преступница, ты умрешь «от случая», оплакиваемая, уважаемая, тебя похоронят с честью, незаслуженные похвалы и лесть раздадутся над могилой. А вся грязь, весь позор и ужас твоего дела, должные поразить тебя и только неправым счастьем, случайной, фальшивой подтасовкой обстоятельств отвлеченные от твоей головы, обрушатся на ту невинную? Ну что же? спасай себя и убивай ее! ей ведь все равно — не привыкать к позору. Она камелия, самка, тварь — что ей? уж заодно пусть идет и в каторгу… так ведь? не правда ли? И ты еще судишь! ты, продажная, как и она! ты… убийца.
XXIII
Людмила Александровна изменила свой план. Она села в вагон с твердым решением: «Я убью себя, но сперва объявлю свое преступление».
«Куда же идти мне? — размышляла Верховская, стоя в ожидании своих вещей, попавших в руки довольно неповоротливого артельщика, на платформе московского вокзала. — К судебному следователю. Кто он и где он живет?»
Она не знала.
Просто взять и подойти к первому городовому или вот хоть к этому бравому жандарму в медалях, который так важно и сурово расхаживает по платформе, и объявить ему: я убийца. Он, конечно, отведет ее в участок, но прежде поднимется шум, сберется народ.
Каин сказал Богу: «От имени Твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». В Людмиле Александровне проснулось наследие Каина: родился обычный недуг преступников — страх людей. Она живо вообразила: народ, при слове «убийца», озлобится, бросится на нее, станет бить — как знать, — пожалуй, истерзает, разорвет на куски… А то другое: ни городовой, ни народ не поверят ей, сочтут ее пьяною или сумасшедшею, будут глумиться, хохотать. Нет! все, кроме уличной сцены; все, кроме толпы-свидетельницы! Еще она боялась, что, если ей не поверят по первому признанию, у нее недостанет духа повторить его еще раз, — кроме личного признания, у нее нет улик на себя, и ее отпустят со срамом и советами лечиться. Ведь каждый раз, когда оглашается громкое преступление, находится столько мнимых преступников, воображающих, будто именно они-то его и совершили. Затем: если ей поверят и арестуют ее, как избегнуть суда? Как исполнить задуманное самоубийство? Ее посадят в одиночную, под караул: там не добыть ни ножа, ни револьвера, ни яду, ни веревки. Голодом разве покончить с собою? А хватит ли энергии на такую пытку? Эта желанная смерть так грозна: мигом, закрыв глаза, очертя голову, можно — хоть и с отчаянием в сердце — броситься в ее объятия. Но смотреть ей в лицо день за днем, из часа в час, из минуты в минуту… нет, недостанет сил!