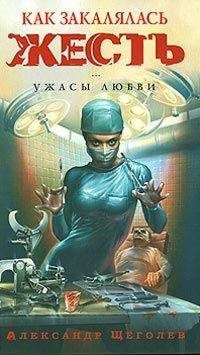Евгений Рейн - Избранное
ШЕСТОЕ МАЯ
За десять лет два раза — тот же день,
шестого мая, было воскресенье.
Медовая московская сирень,
лиловое густое сновиденье
мотались на углах. На телеграф
зачем-то шел я, стиснутый народом,
и вдруг нос к носу… И она, задрав
свой горборимский, ибо шла с уродом,
какой-то смесью чушки и хорька,
и потому особенно надменна.
Хотя нам было с ней наверняка
о чем поговорить. Одновременно
пролить слезу на теплый тротуар
шальной Москвы, пустой, как все столицы
в воскресный день. И ветер продувал
Тверскую и не мог угомониться.
Он нес пустые пачки «Мальборо́»,
сиреневые гроздья, чьи-то письма…
О жизнь, ты возникаешь набело,
как из души прорвавшаяся песня.
Ты возникаешь наугад, впотьмах,
где ищешь выключатели на ощупь.
Ну вот и окна вспыхнули в домах,
мы двинулись на Пушкинскую площадь.
Она была подругой двух друзей
в иных местах и временах… когда-то.
Ее белье пора продать в музей,
и, я ручаюсь, воздадут богато.
Все это было в лучшей из систем,
где ипокрена бьет на черном хлебе.
Зачем, я вопрошаю вас, зачем
и почему? И что всего нелепей —
остались оба, в общем, в дураках.
Не для того ль она, дохнув шампанским,
сирень перебирала на руках
здесь, на Тверской, с каким-то иностранцем?
Который, явно, был здесь не у дел,
на выставках чего-то там наладчик.
Из-за чего ж, дружок, ты погорел,
мой ученик, мой гениальный мальчик?
Из-за чего нешуточный свой дар
принес другой на сей алтарь грошовый?
И здесь уже кончался тротуар,
и начинать им не хотелось новый.
Я видел, как они вошли в такси,
и «Волга» побежала по бульварам.
Кончаю — ни смущенья, ни тоски,
ни ругани — и все-таки недаром…
Ведь что-то было. Что-то, хоть слеза,
хоть полсловечка, дырочка в перчатке.
Я повернул блудливые глаза —
из телеграфной двери, из тройчатки
процеживались словно в решето
пестрейшие приезжие пижоны,
и булькала толпа у ВТО,
синея в джинсовне на все фасоны.
Шестое мая — день известный встарь,
пятнадцать лет назад он много значил.
День ангела жены. Но календарь,
как водится, его переиначил.
АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ
Ангел мой, истребитель,
Через десять минут наш полет.
Кто-то свой проявитель
На воздушную пленку прольет.
В нидерландской короне
Из канала глядел ты туда,
Где доныне в глухой обороне —
Наша истина, наша беда.
Вот моторы готовы,
На турбинах горит керосин,
Вознеси меня над Комарово
И спикируй над ним, господин.
Там, на кладбище малом,
Там, где Анна, Володя, Илья,
За другим перевалом
Должен быть похоронен и я.
Но покуда, покуда
Я не кончил большого труда,
То ни Понтий, ни даже Иуда
Мне, увы, не опасны. О да!
Ангел мой, истребитель,
Мой растлитель, товарищ, двойник,
Ты — письмо, это я — отправитель,
И поэтому слишком приник
К этим крыльям и этой кабине
так дико ору в шлемофон…
В небесах, на твоей половине
Я — как ты, и к тому же — грифон.
Потому что однажды
Я, дружок, оторвусь от тебя
И над Андами жажды
Атакую, тебя истребя,
Твой пробью алюминий,
Оборву неизбежный полет,
На моей половине
Это только запишут в зачет.
Словно летчик Гастелло
Ты падешь на проклятый земшар.
Выше духа и дела —
Истребление, гибель, пожар.
УХМЫЛКА ЛЕОНАРДО
Я вышел на канал
через настил горбатый,
и Амстердам мерцал,
под вечер бесноватый,
шел в небеса дымок
чужой марихуаны,
я так устал, промок
под местные дурманы.
Я сел на парапет
лилового залива
и заказал в ответ
четыре кружки пива:
«Бельгийского», «Фуше»,
«Мадонны» и «Короны»,
и захватил в душе
плацдарм для обороны.
Налево за стеклом
загадочней Джоконды
меня манили в дом
одни такие блонды,
что снял бы я часы
швейцарской фирмы «Роллекс»
и наколол усы
на этот южный полюс.
Но поздно! И при мне
мои часы и деньги,
и я давно вовне,
в смоленской деревеньке,
где бедная моя
спит на погосте няня.
Летейская струя
летит, меня тараня.
Последний «мессершмит»,
последний Талалихин,
я заживо убит
и замертво накликан
на ваш последний пир
у аравийской бездны.
Оставь меня, кумир,
друг другу бесполезны,
совместно мы глядим
на знаки Зодиака,
ты мне необходим,
и я — тебе, однако,
все было и прошло
при Прусте и Верлене,
но очень хорошо
в твоем разлечься тлене.
А ну, мерцай, мани
в развалы и бордели,
забудь и помяни
меня в пустой постели,
где нету ничего —
ни спазма, ни азарта,
и вот взамен всего —
ухмылка Леонардо.
СИРИУС НАД МААСОМ
Глядя на берег Мааса, где стройки железобетон…
Боже, какая гримаса в этом пейзаже речном!
В старом пустом ресторане, где вывален век либерти,
Что-нибудь, хоть Христа ради, но выпроси, приобрети.
Дайте мне рюмку ликера, дайте шпината еще,
Вздора, фурора, фарфора, но только еще и еще.
Пылко дышали тарелки — «веджвуд» с копченым угрем,
Выдумка смерть и безделка, может быть, мы не умрем.
Может быть, вечным обедом нас на террасе займут,
Ибо ответ нам неведом, ибо свидетели врут.
Так оскорбительно глупы, можно сказать, что глупы
Рябчиков тухлые трупы, устрицы, раки, супы.
Тихие флаги речные мимо уносит Маас,
Тени и пятна ночные… Сириус смотрит на нас.
Будь же ты проклято, небо, демон распятой земли,
Если за корочку хлеба мы тебя приобрели.
«НОЧНОЙ ДОЗОР»
У «Ночного дозора» я стоял три минуты,
и сигнал загудел, изгоняя туристов.
Я бежал, я споткнулся о чекан Бенвенуто,
растолкал итальянок в голландских батистах.
Что-то мне показалось, что-то мне показалось,
что все это за мной, и мой ордер подписан,
и рука трибунала виска мне касалась,
и мой труп увозили в пакгаузы крысам.
Этот вот капитан, это — Феликс Дзержинский,
этот в черном камзоле — это Генрих Ягода.
Я безумен? О, нет! Даже не одержимый,
я задержанный только с тридцать пятого года.
Кто дитя в кринолине? Это — дочка Ежова!
А семит на коленях? Это Блюмкин злосчастный!
Подведите меня к этой стенке, и снова
я увижу ее в кирпичной и красной.
Заводите везде грузовые моторы,
пусть наганы гремят от Гааги до Рима,
это вы виноваты, ваши переговоры,
точно пули в «десятку» — молоко или мимо.
И когда в Бенилюксе запотевшее пиво
проливается в нежном креветочном хламе,
засыпайте в ячменном отпаде глумливо.
Ничего! ВЧК наблюдает за вами.
Вас разбудят приклады «Ночного дозора»,
эти демоны выйдут однажды из рамы.
Это было вчера, и сегодня и скоро,
и тогда мы откроем углы пентаграммы.
«Саксофонист японец, типичный самурай…»
Саксофонист японец, типичный самурай,
Играет на эстраде: «Живи, не умирай!»
Скажи мне, камикадзе, ужасен, волосат,
Неужто нет возврата куда-нибудь назад?
Куда тебя, японец, безумец, занесло?
Какой сегодня месяц, трехзначное число?
Дурацкая Европа дает аплодисмент —
Как все они похожи — и Каунас, и Гент!
А ну, скажи, Цусима, ответь мне, Порт-Артур,
Махни косой, раскосый, из этих партитур.
Там, в Тихом океане торпедный аппарат,
Неужто нет возврата куда-нибудь назад?
Со спардека эсминца взгляни на Сахалин.
А здесь на мелком месте ты, как и я, один.
Надень свои петлицы, сними свои очки,
Одной заглохшей клумбы мы оба червячки.
Над пушками линкора последний твой парад.
Неужто нет возврата куда-нибудь назад?
Что скажет Ямамото в открытый шлемофон?
Чем кончится проклятый, проклятый марафон?
Ты рухнешь над заливом на золотое дно…
Сыграй мне на прощанье, уж так заведено.
Скажи на саксофоне: рай это тоже ад?
Неужто нет возврата куда-нибудь назад?
ПОД ГЕРБАМИ