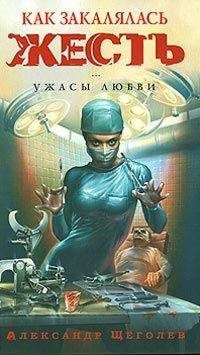Евгений Рейн - Избранное
КОМЕТА
За Фонтанку, за Международный[12],
На Сенную, на Обухов мост…
Где заката свет багрянородный
И кометы черно-бурый хвост.
Для чего повисла ты, комета,
Над Фонтанкой этой и Сенной?
Ты, недостоверная примета,
Что ты там твердишь над головой?
Или только потакаешь слуху,
Посреди завравшихся небес?
Через нашу смуту и разруху
Объяви, что знаешь, наотрез.
Говори, к чему ты нас склоняешь,
Шьешь и порешь, что портновский нож,
Именем забытым окликаешь
Или клин вшиваешь в брюки клеш?
Но на трубах дальнего завода
Виден ангел Страшного суда,
И поет горластая свобода
Где-то там, за площадью Труда.
Если вправду ты закрыть решила
Наш непоправимый календарь,
Ножичком, обточенным до шила,
Под лопатку бешено ударь.
ЩЕЛКУНЧИК
Н.
Распахнулся бархатом лазурным,
Серебром нордическим светя…
Посреди плясало неразумно
Милое ученое дитя.
И темнее распускала люстра
Тени императорских затей.
Кто задумал нежно и искусно
Этим пляскам обучать детей?
Ведь искусству тлена не осилить,
И в глаза пророка не взглянуть,
Можно лишь предчувствие расширить,
Можно угол на тузе загнуть.
И когда, безумствуя, Нижинский
Выступает, точно призрак роз,
Только на секунду выше жизни
Прыгает божественный склероз.
И тогда летят чешуйки роем —
Лебеди, сильфиды и пажи.
Ты нам подскажи, мы их прикроем,
Ты нам объясни и прикажи.
Ведь под черным небом хватит моли,
И прихлопнем демонский полет,
Это вышло из Твоей неволи —
У Тебя и так полно забот.
Ведь сначала Ты поставил Слово,
Свел его с музыкой и тоской,
Этой ночью было все готово,
Рушилось нам в душу головой.
Мы б тогда и поняли, что значил
Замысел и замысла итог,
Кто и что Твое переиначил,
Кто Тебя забыл и не помог.
Всякому за это будет кара,
Хоть и всех накроет Твой прилив,
Кто умножил даже малость дара,
Кто схитрил, свой гений погубив.
Ниже мы разболтанной танцорки,
Той, что в Люциферово плечо
Слепнет, точно птица, дальнозорка,
Гибнет, как стрекозка, горячо.
ДОМ МУРУЗИ[13]
Возле храма св. Пантелеймона, у вокзала,
где толпа красавца антиленинца растерзала,
дом доходный, девятиэтажный, в мавританском стиле,
кто с достатком, да и те, кто с блажью, там и жили.
Анфилады зал, гостиных, кабинеты, спальни,
а на именинах, на крестинах так хрустальны
эти баккара, бокалы, рюмки, вазы,
эти броши-розы, броши-лунки, бриллианты, стразы…
Там была квартира в бельэтаже — вид на церковь,
и когда-то в ней бывали даже Фет и Чехов,
Соловьев, Леонтьев, и Бердяев, и Бугаев,
и немало также благородных разгильдяев.
А какие пирожки, эклеры, а ботвиньи!..
Даже анархисты и эсеры не противны.
С этого балкона так удобно виден митинг,
и швейцар расспросит: «Что угодно?» — ражий викинг.
Но куда-то он исчез однажды (говорят, в эсдеки),
под балконом головы задравши, человеки
все кричали: «На-кася и выкуси по-таковски!»
Горячо им возражали Гиппиус и Мережковский.
Но матросы с золотом на ленточках в буром клеше
отзывалися об антиленинцах еще плоше.
Были все резоны перелистаны — мало толку,
а ВИКЖЕЛЬ ручищами землистыми разводил, и только.
АВСТРО-ВЕНГРИЯ
Да выковыривает плуг
Пуговицу с орлом.
На железнодорожной станции венгерской
В толчее денек,
А из-за ограды тычется железный
Траурный венок.
«Был здесь, — говорят мне, — госпиталь военный
В тех сороковых».
Сколько же забытых, сколько незабвенных,
Мертвых и живых!
Пыльною травою поросло все это
В цвет сухих небес.
Пролетают мимо посредине лета
«Форд» и «мерседес».
«Здесь была казарма при имперском иге, —
Объясняют мне. —
И артиллеристы дыбили квадриги
В этой стороне».
Бакенбарды Франца и штиблеты Швейка,
Вот и ваш черед!
Заросла в ограде кладбища лазейка,
Солнышко печет.
Полегла Европа в рыхлые траншеи,
Проиграл Берлин.
Только я не знаю ничего нежнее
Этих именин.
Девочки Европы в горбачевских майках —
Чудо из чудес.
Мальчики Европы в шортиках немарких,
«Форд» и «мерседес».
Что же я глазею, старый иностранец,
Тент мой полосат.
Пусть меня охватит нежный их румянец,
Легкий их азарт.
О, как бесконечно долго я не видел
Этой суеты.
О, как тихо тронул европейский ветер
На венке цветы.
Не припасть навеки черными губами
В полосатый шелк.
Только б расплатиться мелкими деньгами
За уют и долг.
И венок трепещет траурною лирой,
И слепит Дунай.
Пользуйся, товарищ, этой жизнью сирой,
Но не умирай.
ДОМ ПОЭТА
Я был в квартире Эндре Ади[14]
И не застал там никого.
И все же, все же, бога ради,
Не забывайте дом его.
Ни полинялые диваны,
Ни рамки в стиле «либерти»,
Венецианские стаканы,
Цена их — бог не приведи!
Не разрушайте дом поэта
Среди корысти и беды,
По случаю кончины света
И всяческой белиберды.
Свет отгорит и вспыхнет снова,
Взойдут народы и падут,
Но этого молитвослова
На столике не создадут.
И выцветший на фото локон,
Очаровательный овал
Из миллиона избран богом,
Чтоб я его поцеловал.
И, наконец, диванный валик,
Где Ади умер молодым,
Мне виден через тот хрусталик,
Которым в вечность мы глядим.
И нам понять доступно это,
И выразить дана нам мощь,
Приют поэта, дом поэта —
Прихожая небесных рощ.
«Где следопыт в шинели каменной…»
Где следопыт в шинели каменной
стоит на страже за римской храминой,
где профсоюз стучит печатями,
а лучший кровельщик бузит с девчатами,
что перемазали наш домик в розовый,
и он теперь-то и вовсе бросовый.
Где я вбегал к тебе по лестнице,
жене и неженке, своей прелестнице,
и где ступенька доныне прогнута…
О, будь удачлива и вечно проклята!
За все и бывшее, за все небывшее,
за все, оскомину до дна набившее,
за все, что ты сказала, сделала,
за то, что знала и что не ведала,
за всю твою любовь-прощение
и за предательское поручение —
любить и звать тебя последним шепотом,
катить по жизни гремучим ободом,
прийти однажды на Мархлевского —
смиренно, тихо, украдкой, ласково —
сдать часовому и нож, и маузер,
за то, что слезы я впотьмах размазывал,
и врал, и верил, и звал отсюдова
к северо-западу стыда подсудного,
за то, что ты меня с поличным выдала
на волю этого крутого идола,
и за его допросы вежливые,
за папиросы его насмешливые.
За ваши козни окаянные,
что отпустили без покаяния,
круша известку притворным высверком,
жить разрешили бездомным призраком.
БРЕСТСКИЙ МИР
В переулке Малом Левшинском,
в доме стиля рококо
Блюмкин жестом самым дружеским
размахнулся широко.
И павлины на плафоне
поглядели на него,
Мирбах в шелковом пластроне
не заметил ничего.
Не успели немцы чинные,
обитатели тех мест,
и по этой же причине
зря катался Троцкий в Брест.
Изумленная прислуга
опрокинула бокал,
некто в сером от испуга
необдуманно икал,
А посол стоял безжизненный,
наводя на строчки взгляд,
потому что сам Дзержинский
косо подписал мандат.
Фридрих, Менцель, Тинторетто
наблюдали со стены,
ведь они-то знали: это —
самый первый день войны.
Кайзер шел на Украину,
Черчилль крейсер торопил.
Блюмкин адскую машину
раскачал и отпустил.
Он стоял в кожанке новой —
мелитопольский еврей,
Герострат темноголовый,
хитроумный Одиссей.
А на кухоньке убогой,
поджимая камень губ,
из тарелки неглубокой
Ленин ел перловый суп.
И глядела Немезида
в зачерненное окно —
было все уже убито,
Все до срока решено.
Даже гений Леонардо
не сумел бы им помочь.
Блюмкин бросился обратно,
на Лубянку, в злую ночь.
Что касается же Мирбаха —
не осталось ничего.
Только имя. Мир праху его!
Все? Да, только и всего!
ФОНТАНЧИК