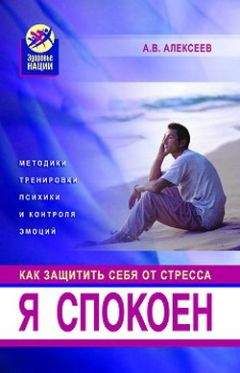Евгений Блажеевский - Письмо
Следует сказать особо ещё об одном аспекте свободы — о свободе для страны, для России. Женя был удивительным, страстным патриотом. Патриотом, не ведающим паспортных наций (тем более, что в нём самом было намешано с полдесятка кровей), патриотом, чётко, тем не менее, различающим своё и чужое. Чужое мог уважать, мог любить, а за своё — болел. И болел порой тяжело. Болел от всех передряг, выпавших стране, болел от навалившихся на неё унижений, от глупости и вороватости вождей, ругался, глядя на происходящее, но не прощал тому, кто отзывался о России отстранённо, холодно, безучастно. Россией надо было болеть. И он болел. Всё, связанное с Россией, должно было быть лучшим. Доводов никаких не принимал. Особенно забавно это проявлялось во время футбольных трансляций, когда он победу или поражение сборной напрямую проецировал на состояние дел в стране. Спустя месяц после Жениной смерти мы с Олегом Хлебниковым подпрыгивали на креслах в Питерской гостинице, глядя, как наши обыгрывают французов в Париже. А когда всё закончилось, чуть не одновременно вздохнули: эх, Женька не дожил!
Происходящее со страной отзывалось в его бедном сердце напрямую:
Сжимается шагрень страны
И веет ужасом гражданки
На празднике у Сатаны,
И оспа русской перебранки
Картечью бьёт по кирпичу,
И волки рыщут по Отчизне,
И хочется задуть свечу
Своей сентиментальной жизни.
При этом Женя уже всё понимал, всё обдумал и за пределами стихов. «Русский народ, — говорил он, — не стал, к сожалению, в нашей стране тем основополагающим ядром, каким, например, стали англосаксы для США. Замордованный вначале коммунистами, а потом и посткоммунистами, он согнулся под непосильной ношей. Не может быть лидером самый бедный, измученный, растерянный. Распад был, скорее всего, не столько неизбежен, сколько необходим. Потому что та тяжесть, которую взвалил на себя русский народ, оказалась ему не по силам Именно здесь кроются наши сегодняшние беды и неприятности».
Но, конечно, не столько политические границы его интересовали, не столько количество оставшихся за Россией земель, сколько очевидный распад русского культурного материка. А уж это-то было для него точно смерти подобно.
Освободясь от лошадиных шор,
Толпа берёт билеты до америк,
И Бога я молю, чтоб не ушёл
Под нашими ногами русский берег…
В своём стремлении к свободе народ пошёл на самоубийство. Тут круг замкнулся, и Блажеевский, дошедший в поисках своей личной свободы до конца, остановился в растерянности:
Российская сущность свободы —
Распад, растворение, мрак…
Мне кажется, Женя не успел сообразить, что «российская сущность свободы» близка к свободе абсолютной, поскольку граничит с бездной. И именно в этом смысле Евгений Блажеевский — истинно русский поэт.
* * *Так вот, волки эти не должны были появляться здесь, в Женином Эльдорадо, в сказочной его стране начала восьмидесятых. Да, с миром всегда было «Несовпаденье. Путаница карт…». И именно к этому времени Блажеевский окончательно понял, для Кого пишет. Всё чаще отказывался от публичных выступлений, хотя читал здорово. И даже публикации его стали интересовать исключительно как средство заработать немного денег. Но он нашёл себе заповедник, загон, огороженный высоким забором, в котором с удовольствием проводил летние дни.
Тогда я частенько слышал по утрам в телефонной трубке: «Старик, пошли на выставку». И мы шли на выставку. Выставкой у Жени называлась ВДНХ. Тогда, до эпохи рекламы и тотального бизнеса, особенно в будние дни выставка выглядела островком иного, беспроблемного, мира Здесь были пруды, лебеди, зоопарк, лошадки, тенистые аллеи и много-много маленьких и дешёвых забегаловок. За вход надо было платить, но Аркадий Пахомов знал тайный ход со стороны киностудии, и мы проникали бесплатно. Да, мир не принимал, но здесь у «горсточки потерянных людей» было всё, что нужно для «нищей свободы». И кто знает, может быть, в лужице разлитого по столу портвейна Жене мерещился пьяный корабль Рембо, с блеском им переведённый, а в шуме фонтанов — экзотическая Аргентина, в которой он никогда не был, но где хотел бы родиться для новой жизни.
Но всё же я хочу родиться вновь
Не на угрюмом Севере, а, скажем,
В далёкой и прекрасной Аргентине,
Где танго и цветы, как на картине…
Заходить в павильоны и глазеть на достижения советского народного хозяйства, конечно, никому в голову не приходило. Хотя изредка попадались выведенные из стойла прямо на аллеи огромные пятнистые коровы и отменные рысаки. А вот крытые дырявым шифером забегаловки внушали покой и раскрепощение. Вчерашние пельмени с кисловатой сметаной прекрасно дополняли бутылку вина, чтение стихов и долгие разговоры. Женя чувствовал себя превосходно и поминутно через стёкла очков заглядывал мне в глаза, желая удостовериться, что я тоже счастлив.
Но короткое московское лето заканчивалось, как всегда, неожиданно. А осень… Осень у него была своя. Осень для него была не просто временем года — синонимом ухода. Осенью бездна подступала вплотную, вместе со стихами. Порознь они к Блажеевскому не ходили. И потому с первыми дождями и северным ветром, в тот промежуток, когда лето уже кончилось, а стихи еще не пришли, на него было больно смотреть. А потом, где-то к началу октября, ко дню рождения он уже приходил в нормальное состояние и — с новыми стихами.
Не случайно его главное, на мой, конечно, взгляд, произведение — «Осенняя дорога». Он её писал десять лет. Магистрал уже давно был опубликован, из него сделали несколько песен, а всё остальное ещё писалось и писалось. «По до-ро-ге в Заго-о-рск», — тянул Александр Подболотов в фильме и со сцены. «По до-ро-ге в Заго-о-рск», — пела Бичевская. А Женя в это время всё ещё, как натюрморт в раму, втискивал всю свою жизнь, всю свою осеннюю судьбу в эти четырнадцать отрывков. (Марина Кудимова, друг называется, по иронии судьбы депутатствовала в перестройку именно в Загорском районе и расстаралась, чтобы название «Загорск» навсегда исчезло с географической карты, оставшись только фактом Жениной поэзии).
А в последнюю осень случилось непоправимое: сентябрь пришёл без стихов. И октябрь тоже. Домучился до запасного на этот случай декабря — мимо. Потом заговорил о смерти.
Интересно, что сталось с теми волками с «выставки»?
* * *Последнюю, третью книгу, выхода которой так и не увидел, Блажеевский назвал «Черта». Эпоха подвела черту под ним, а он — под эпохой. Или не под эпохой даже — под веком, тысячелетием, под целой эрой развития человечества При этом я совершенно далёк от мысли поспешно превозносить своего друга до небес и награждать превосходными эпитетами. Только время всё назовёт своими именами. Но просто так случилось, так совпало, что он стал современником гигантских революционных процессов, бродящих по нашей земле уже целое столетие и именно в наши дни приобретших реальные очертания. А поскольку уж Женя чуял «запах талых вод, Как раненую дичь собака», то он и их, естественно, учуял, и они превратили прекрасного интимного лирика, каким он был рождён, в одного из самых значительных поэтов конца века.
Он говорил: «Лично мне неуютно ещё и потому, что мы, по всей видимости, находимся на новом витке человеческого познания и сознания, которые мне уже не преодолеть. Мы присутствуем на процессе, когда изменяется мышление, переоценивается культура, умирают религии в том виде, в каком они сейчас находятся. А вместе с религиями умирает, к сожалению, книга… Уже сейчас многие поэты называют свои стихи текстами. Всё это печально. Но надо смотреть правде в глаза: процессы эти неотвратимы, и нам не дано их предотвратить. По этому пути идёт человечество. И мне, честно говоря, несмотря на все ужасы и кровопролития, хотелось бы чуть-чуть подольше задержаться в двадцатом веке с его пониманием традиций, эстетики и красоты. То, что грядёт в грядущем столетии, мне чуждо».
И вот совсем немного лет
Осталось до скончанья века,
В котором был один сюжет:
Самоубийство человека.
……………………………
Но я, смотря ему вослед,
Пойму, как велика утрата.
И дорог страшный силуэт
Стервятника в дыму заката!..
Осуществил желание. Остался в XX веке навсегда.
Всё сошлось и затянулось петлёй. Сбежавший когда-то с Кавказа от «дашбашных» дел (ты — мне, я — тебе), через два с половиной десятка лет Женя вдруг обнаружил, что они догнали его в Москве и стали государственной политикой. Перевод человеческих отношений на коммерческие рельсы, поворот к деньгам как к высшей ценности был ему омерзителен. Русская культура, которая одна всю жизнь и держала его на плаву, дала, на его взгляд, очевидную трещину, как «Титаник» напоровшись на гигантскую подводную плоть. Плоть побеждает духовность. Мир избавляется от культуры. «В глобальном плане, — говорил Женя, — культура уже не учитывается, как не учитываются и особенности наций. Тело пожирает душу». Современные войны он так и воспринимал, как агрессию плоти против духа, против национальной самобытности, мешающей распространению плотских ценностей нового века. Говорил, что ему стыдно жить.