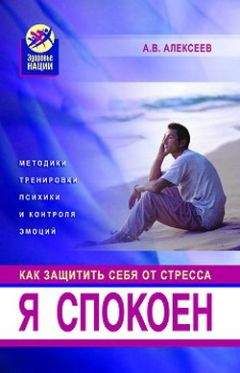Евгений Блажеевский - Письмо
Когда писал — не боялся. Был абсолютно свободен. Потому и не исповедовал никакой религии, и не ходил в церковь, что не терпел любого вмешательства в свои отношения с Богом. Так и заявлял: «Мне не нужны посредники». Но стихи ведь не всегда писались.
А в обыденной жизни, пожалуй, было страшновато. И тут спасался от одиночества, как мог. Удивительно умел выбирать людей для общения. Вернее, так: не он выбирал, а они как-то выбирались ему сами. Абсолютно разные, непохожие, несовместимые, они при нём становились единым целым, учились дружить меж собой даже без Жени, словом, обретали одну группу крови. Они спасали. Они старались понять. Они становились для него способом коллективного ухода от страха.
В этом человеке сумасшедшая страсть и тяга к общению всегда соседствовали с горьким одиночеством. И ни он сам, ни близкие ему люди ничего с этим поделать не могли. Его любили и спасали, как умели. А он убегал. Потом покаянно возвращался, недельку не выходил из дома, всем своим видом выражая раскаяние. Именно в эти периоды звонил мне и совершенно искренне возмущался какими-то своими знакомыми или друзьями, которые дошли до того, что неумеренно пьют водку и вообще ведут себя неподобающим образом.
С годами одиночество становилось всё более неизлечимым. Вернее, не так: с годами возникло ещё и понимание, что одиночество непреодолимо. Это была уже обречённость. Не помогала даже любовь. А ведь любовь была его сутью. Даром что не крещёный. Как-то сказал: «Но мы же с тобой понимаем, что мир пуст и бесполезен, если в нём нет любви. Иногда, когда мне очень плохо, я встречаю на улицах влюблённых. И становится легче. Влюблённые — это как подтверждение тому, что жизнь всё ещё не напрасна». Так вот, и любовь уже не спасала. Отваливался последний гвоздь, скреплявший с миром. И он это отчётливо видел.
И, как от забора доска,
Оторван от мира людского.
Ещё в семьдесят четвёртом написал стихотворение, начинающееся строкой «Я выпадаю из обоймы вновь»:
А мой удел, по сути, никакой.
Во мраке человеческих конюшен
Я заклеймён квадратною доской,
Где выжжено небрежное «не нужен».
Не нужен от Камчатки до Москвы,
Неприменим и неуместен в хоре
За то, что не желаю быть как вы,
Но не могу — как ветер или море…
Здесь, может быть, ключ к основной трагедии: природное неприятие любой несвободы и в то же время невозможность достижения абсолютной свободы в том виде, как он её понимал «Как ветер или море». Плоть мешала. От неё он постепенно всю жизнь и избавлялся. Но это не было медленным, растянутым на годы самоубийством. Нет. Это было попыткой одолеть плоть духом.
Вообще-то это отчаянное бегство от несвободы началось давно, чуть не с первых шагов. Несвобода всегда бежала следом, наступая на пятки, мимикрируя, приобретая разные формы. Но по сути это и была естественная для этого мира охота на одинокого волка, не столько не желавшего «быть как вы», сколько не умевшего. Стрелки забегали неожиданно, со всех сторон, и было всё равно уже, в какую сторону бежать. А потому — «Лицом к погоне», как он гениально точно назвал свою книгу.
Вначале казалось, что всё дело в советском режиме, который он не любил, да и любить не мог при всем желании.
Мы в пене сада на траве лежим,
Портвейн — в бутылке, как письмо — в бутылке.
Читай и пей! И пусть чужой режим
Не дышит в наши чистые затылки.
Потом оказалось, что дело не то чтобы не в нём, но не в нём одном. Уж писать-то он Блажеевскому не мешал. Да и книжка «Тетрадь» вышла ещё в восемьдесят четвёртом. А что касается свободы мирской, материальной, то она бывает двух видов: либо человек должен быть очень богатым, либо совсем нищим. Женя с аристократическим видом балансировал на грани нищеты, что, кажется, до поры не очень смущало. Потому что эту свободу обставить необходимыми атрибутами было не сложно: «А что ещё надо для нищей свободы? — Бутылка вина, разговор до утра…» Но и это на поверку не оказалось свободой. Только иллюзией свободы. Но иллюзия, а потом и наркотическое стремление к ней, притягивала, затягивала смертельной петлёй, из которой ему всё-таки удавалось вырываться. Спасал охранительный инстинкт. Но хотя по его же словам из стихотворения «Дорога» «Судьба растёт, как дикий виноград, Как дерево, — без чертежа и плана…», направление этого роста, тенденция судьбы была ему уже очень хорошо понятна. Помню, когда он писал свой знаменитый теперь венок сонетов «Осенняя дорога», заклинал меня, а, скорее, через меня — себя, что об Этом он должен сказать и скажет всё честно. Получилось кратко, но исчерпывающе:
Безрассудному пьянству не буду искать объясненье,
Но насколько оно безрассудно сказать не берусь.
Всё в своём стиле. Без философий. И не нам теперь отвечать на вопрос, на который он сам не стал искать ответа. И точно ведь пьянство не было безрассудным, потому что его требовал рассудок.
Из Жени вообще философ был никакой. Он и в споре ничего не мог доказать — только злился и шумел. Зато он умел доказывать стихами. И тут уж — никаких доводов против, потому что в стихах никогда ничего не придумывал, полностью полагаясь на тот шёпот из-за спины, который пугал, конечно, но и давал облегчение, если хотите, окрыление.
В том, что пишет, был убежден абсолютно, в том, как пишет, иногда сомневался, названивал друзьям, проверяя на них варианты стихотворений или отдельных строк.
Слушал внимательно, иногда соглашался, но жёстко пресекал любую попытку посягнуть на суть написанного, которую в каждом случае знал он один. А сутью и целью было — максимально точный перевод с Божьего на русский, доступный и внятный, для чего к концу жизни почти полностью отказался от метафор. Они ему были не нужны, уводили в сторону, затеняли суть красивостью, мешали из земной провинции говорить языком небесной метрополии.
В провинции такая глушь,
Что обойдемся без метафор.
Так вот, этому максимально точному переводу мешала недостаточная свобода. И он упорно отбрасывал всё — закрепощавшие условности бытия, авторитеты, идеологии, дни недели («Свобода жить без мелочных забот, Свобода жить душою и глазами, Свобода жить без пятниц и суббот, Свобода жить как пожелаем сами…»). Потом добрался до отрицания такого философского понятия, как время, и, наконец, подверг сомнению угодность этого мира его Создателю. Всё. Очистил своё восприятие максимально.
Это пришло где-то в начале восьмидесятых. Мы бродили без дела по Москве, Женя был светел, силён, одухотворён и бубнил несколько строк:
Когда я верить в чудо перестал,
Когда освободился пьедестал,
Когда фигур божественных не стало,
Я, наконец-то, разгадал секрет, —
Что красота не там, где Поликлет,
А в пустоте пустого пьедестала.
Эти свои самые философские, может быть, стихи писал ещё несколько лет (всего-то три строфы!). Но в каждой последующей — чёткая динамика освобождения. То есть он именно повернулся «лицом к погоне», лицом к пустоте. Он начал с ней сливаться.
Потом я взял обычный циферблат,
Который равнодушен и усат
И проявляет к нам бесчеловечность,
Не продлевая жалкие часы,
И оторвал железные усы,
Чтоб в пустоте лица увидеть вечность.
А увидев, окончательно успокоился. Он получил абсолютную точку отсчёта, позволившую взглянуть на всё окружающее как бы со стороны и разочарованно вздохнуть.
Потом я поглядел на этот мир,
На этот неугодный Богу пир,
На алчущее скопище народу
И, не найдя в гримасах суеты
Присутствия высокой пустоты,
Обрёл свою спокойную свободу.
Любопытны вариации пустоты в исполнении совершенно разных людей, с которыми мне довелось общаться параллельно в последнее десятилетие. Философ Григорий Померанц, ссылаясь на рублёвскую «Троицу», заговорил об условной животворящей пустоте, способной объединить в наше раскольничье время страну. Писатель Андрей Синявский в «Прогулках с Пушкиным» догадался о пушкинской пустоте, которая одна и давала ему возможность максимально воспринимать диктуемое извне, записывать и таким образом избавляться от написанного. (Чем ещё, кстати, страшна для поэта несвобода — ненаписанными стихами. Ненаписанные стихи — как шлаки в крови, постепенно перекрывающие доступ кислорода.) Поэт Борис Чичибабин не уставал рассказывать, какой он пустой и никчемный человек, и чуть ли не с недоверием глядел на собственные стихи, не понимая, откуда они берутся. Блажеевский же поступил как ребёнок, раздирающий куклу, чтобы узнать, каким образом она говорит «мама». Разгадав значение бездны, он ринулся ей навстречу, чтобы посмотреть, как она устроена.