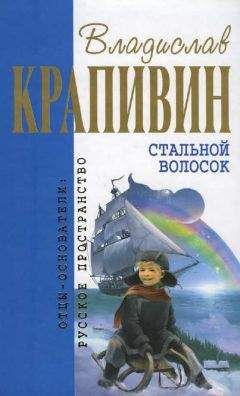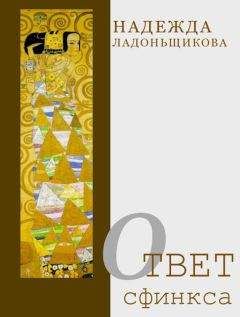Владислав Дорофеев - Вечерник
Из «Сказаний фенрика Столя»
Кульнев[1]Пока воспоминания влекут,
Пока ночь за окном,
Про Кульнева рассказ начну,
Что слышал ты о нем?
В бою он лучше всех рубил,
А на пирушке больше пил,
Как – истинный народный сын,
Он воевал и жил.
Забавой было для него,
Сражаться напролет – день, ночь,
Как истинный герой всегда
Готов жизнь превозмочь,
Любым оружием громить,
Однажды голову сложить,
В бою, а может на пиру,
С бокалом, на скаку.
Со страстью вольною любил,
Свободно жил и выбирал,
Из боя только выходил,
Он сразу шел на бал,
Где веселился до зари,
Под утро туфельку с ноги
Подруги верной он снимал,
С шампанским выпивал.
До сей поры хранят в домах
Портрет огромной бороды,
Так кажется издалека,
Поближе подойди —
Увидишь ты в улыбке рот,
Открытый, будто гротный вход,
И ласковый, и честный глаз,
Вот Кульнев наш в анфас.
Лишь стойкий, опытный солдат
Сумеет совладать с собой,
Других охватывает страх,
Как перед сатаной, —
Уже противник чуть живой,
Когда в атаке наш герой,
Кудрявый смольный чуб его,
Страшнее, чем копье.
В сражении он на войне,
Со вздетой саблей, на коне,
На отдыхе и в тишине, —
Естественный вполне,
Вот он идет из дома в дом,
Устраиваясь на постой,
Там, где понравится ему,
Он находил семью.
К кроватке в доме подходил,
Где маленький ребенок спал,
Без церемоний, как любил,
Чем матерей пугал,
Малютку нежно целовал,
Улыбкой кроткой покорял,
Так свой портрет напоминал,
Что я обрисовал.
По сути, золотой душой
Правдивый Кульнев обладал,
Конечно, мучился грехом,
От пьянства своего страдал,
Но совестливо жил,
Когда был мир, когда служил,
Когда молодку целовал,
Когда врага сражал.
И в русской армии дела
Страны вершили имена,
Молва до нас их довела,
Скорее, чем война.
Каменский и Багратион,
Барклай: ждал каждый финн и дом
Стремительные их штыки,
Когда на нас пошли.
Про Кульнева никто не знал,
Но он пришел, как ураган,
Когда костер здесь воспылал,
Мы приняли удар
Его, как молнию из туч,
Который был силен, могуч,
И не взирая ни на что,
Влюбились мы в него.
Тогда сражались до луны,
Хотели все конца боев,
Швед, русский, – так изнемогли,
Бойцам хотелось снов;
Уснули мы, и снится мне
Наш лес в осенней красоте,
Вдруг часовой: к оружию!
То Кульнев вновь в бою.
Вдали от русской армии,
С обозами гружеными
Мы шли, припасы стерегли,
И вот в разгар еды,
Когда у нас привал в глуши,
Вдруг Кульнева отряд в пыли,
Сверкают пики у груди,
Несутся казаки.
Мы тут же в седла на коней,
И отражаем их разбой,
Уходит бородач ни с чем,
Живой, но и пустой;
Но, если бьемся мы не зло,
Тогда он наше пьет вино,
И приглашает нас на Дон,
Зовет сразиться вновь.
Снег, дождь, тепло, мороз трескуч,
Всегда, в любую благодать,
Казалось, Кульнев вездесущ,
Готов он нас достать;
Когда две армии сошлись,
Так ярко рубит сын степи,
Что виден всем издалека —
Чужой родной солдат.
Нет в нашей армии бойца,
Кто Кульневу не очень рад,
По возрасту он за отца,
Товарищ нам и брат,
Но в бой выходит будто зверь,
Навстречу финский наш медведь,
Но выросший не на Дону,
На Саймы[2] берегу.
Когда шел против русских лап,
Испытывал такой азарт,
За честь ведь бился, не за страх,
Он не искал наград;
Вот в схватке, наконец, сошлись,
И финн, и Кульнев увлеклись,
Хотя друг другу и страшны,
Но силою равны.
Теперь нет Кульнева в живых,
Он с шашкою в руке убит,
Давно могилой он укрыт,
Но славы свет горит:
Смелей, отважней и храбрей —
Любой эпитет здесь верней,
Отчизна помнит про него,
Солдата своего.
Хотя рука его несла
Нам раны и страдания,
Для нас герой он навсегда,
В нем видели себя;
Война врагов всех единит,
В боях, сражениях роднит,
И слава высшая в том есть,
И для солдата честь.
Герою Кульневу – ура!
Подобного нет воина,
Хотя в крови его рука,
На то она, война;
Врагами были – он и мы,
Весьма бескопромиссными,
Но воевали искренно,
Достойно потому.
Заслуживает жалкий трус
Позора и забвения,
Кто честно делал ратный труд, —
Лишь восхваление!
И троекратное «ура», —
Кто бился, честию горя,
И все равно, кто он и я,
Враги или друзья!
1848
День кровью павших обагрен,
На Лемо[3] берегах
Был бой, умолк последний стон,
Кто спит, а кто угас;
Темно над морем и землей,
В могиле и в ночи покой.
У кромки темных волн морских,
Бесстрастных зрителей
Резни, солдат седой утих,
При Гогланде[4] он в бой
Ходил, здесь, голову склонив,
Лежит, бледнея, весь в крови.
И некому произнести
Прощальные слова,
И родину не обрести,
Здесь не его земля;
Где Волги плеск – его края,
А здесь в нем видели врага.
Он взгляд потухший иногда
Устало поднимал,
Вдруг на песке, где бьет волна,
И там, где он лежал,
Бойца он юного узнал,
Последний раз взглянул в глаза.
Свистели пули взад, вперед,
Кровь теплая текла,
Бойцы водили хоровод,
Чтобы убить врага,
Теперь едва живой седой,
Не ищет схватки молодой.
В ночи пустынной и глухой
Вдруг слышен звук весла,
Круг светит лунный золотой
На мертвые тела,
И тенью лодка подплыла,
И дева юная сошла.
Как привидение в ночи,
По следу смерти шла,
Молчит и плачет, и глядит
На мертвые тела.
Очнувшись, лишь старик взирал
На этот мрачный карнавал.
Задумчиво он наблюдал,
Пока она брела,
Томился он и ждал, печаль
Глаза заволокла,
Предчувствие лишило сил,
И понял он, кого убил.
Услышав зов издалека,
Уверенно идет,
Она уже почти дошла,
Ее как дух ведет;
Вот в свете призрачном луны
Сраженный юный швед лежит.
И имя крикнула она,
В ответ ей тишина,
Легла и друга обняла,
Но не обласкана,
Безмолвен он, душа пуста,
Пробита грудь и холодна.
Вдруг старый воин вслух сказал,
А сам затрепетал,
Сползла вниз по щеке слеза,
Звук ветер разметал,
Он встал, и, сделав к деве шаг,
Он тут же бездыханный пал.
Как толковать печальный взгляд,
Что он хотел сказать?
Когда он плакал скупо так,
Что надо в том искать?
Поднялся он, затем упал,
А, отходя, чего желал?
Измученной душе своей
Молил он дать покой?
Выпрашивал прощение
У девы той ночной?
Скорбел над тем, что обречен:
Быть жертвой или палачом?
Из чуждой нам пришел страны,
Врагом он нашим был,
Но выше всякой он хулы,
Как мы: он лишь служил;
Месть оставляет в жизни след,
За гробом ненависти нет.
1836
Фигуры
Я наподобие фигур коротким словом изувечен,
снег падает и липнет к голове изысканно беспечной,
вещественную шкуру дня расправлю мысленно кругами,
такими детскими, стремительным движением руками,
прижму ладонями я уши к темени и волком взвою,
а в зеркале отмечу бледность твердого лица героя,
стеклянная поверхность серебра немыслимо хрупка, —
взгляд запрокинется, уже гляжу из зеркала в глаза,
я заправляю мир в его аллею снежную пустую,
рву тихо нотную тетрадь на исполнение вслепую,
ржавеют красно-голубые лошади на карусели,
а в седлах тени человеческие к осени истлели,
врастаю в землю волжскую корнями зримо родовыми,
прибита моя память здесь к кресту гвоздями ледяными.
Не хватает огня, я раскрою широкие створы,
и в ограде Кремля отыщу потайные затворы,
и прилипну, как вошь, к золотистым запяткам кареты,
стук копыт коренной ассонирует с посвистом ветра,
снег не тает в устах, обескровленных ложью измены,
Ленин в списке людей, разыгравших исчадие сцены,
отвратительный смысл, начиненных угрозами букв,
постигаешь, исполненный страхов и жертвенных мук,
труп не сгнивший, подобен немого укора расколу, —
на груди у меня он лежит, – не вздохнуть по канону, —
будто жаба, вскочившая утром на даче в тарелку,
и вскричала жена, и заплакали дочки в сопелку,
я расплавлю слезами сусальную Красную площадь,
и плешивого беса заставлю уйти, как бы корчась.
Развею пепел демонов, вмурованных в стене кирпичной,
и возопив, в молитве перейду на сталинскую личность,
от звезд рубиновых, что над Москвой, мне тошно на рассвете,
в моей блевотине страна и города, и реки, дети,
и предсказуема земля и, отторгая кости, пепел,
кровь черную исторгнет палачей, и нас охватит трепет,
в России поколеблена была основа бытия,
и лишь святых отцов бесстрашные страницы жития
дают возможность зажигать за трапезой, как звезды, свечи,
и ладан в храмах воскурять, и говорить простые речи,
снег легкий падает с утра, укутывая шалью плечи,
невнятный дворник очищает путь движеньем бесконечным,
и примиренные сердца под календарный окрик встречный
курантов бой на выходе из Спасской башни не калечит.
В сапогах за границы чужие ступаю привычно,
не считаю убитых, живых исповедую лично,
по холмам на коне я скачу и на танке въезжаю,
со звездою во лбу и крестом на груди побеждаю,
я в окопе из фляги трофейной коньяк распиваю,
и в крови я на улицах вражьих от ран истекаю,
я солдат, я стою со примкнутым штыком на посту,
разыграю судьбу и поставлю себя на конэ,
чуть ленясь, и на небо Европы безлично взирая,
страшный образ сердечной тоски я собою являю,
когда нечего больше истошно терпеть, я скучаю,
и тогда бессердечно насилую, пью и гуляю,
и бесстрашно воюю, постыдно и жутко страдая,
душу рву на куски, корень слов или снов обнажая.
Холодеющим взглядом я трогаю грудь и смеюсь,
кисеею прозрачной укроешь тоску ты и грусть,
голубые глаза потемнеют без солнца с небес,
черно-белое зрение давит, как жидкий свинец,
отвратительным холодом пахнут пустые слова,
грудь блистает сквозь черную ткань кисеи, как роса,
наступает река, обвивая, объятьями душит,
и от грез постижимых раскаянье мысленно сушит,
я мечтаю о женщине с правильным, сильным лицом,
и стучу по стене золотым мутноватым кольцом,
и ребенка милую, сажая в машину с крестом,
и снимаю рубашку ночную с бесчисленным дном,
и жену приголублю, и тайно в нее я влюблюсь,
к посеревшим губам сквозь металл и мороз прикоснусь.
Я хожу на работу сквозь снег столь привычный и долгий в лицо,
открывается дверь, лишь когда прокручу золотое кольцо,
по ступеням я в землю спешу вслед распятому ныне Христу,
мнится, Божию спину прямую я вижу в подземном миру,
Он уходит упорно туда, где толпятся фигуры из зла,
и томятся подобные Богу отцы из текстуры добра,
в воскресенье упорно выводит святых праотцев Он из ада —
под солёные стены метро, для последнего в жизни парада,
и, конечно, живых москвичей они встретят спешащих туда,
но увидят и тех, кто избегнет подземных мытарств и огня,
их немного здесь странствует в русской подземке сырой —
в синих, душных и грязных вагонах, сквозь мраморный город глухой,
остальным турникет с хрипотцой закрывает проем на бегу,
и как моль, всем своим существом мягко бьются в стекло на ветру.
Отвратительно пахнут живые тела атеистов,
бесы крошат их плоть, выполняя работу стилистов,
нестерпимо смердят животы их, и губы, и печень,
гной сочится из глаз и стекает с лица вниз на плечи,
я в чувствительном сне вижу тени пустые под утро,
шевелятся в толпе, лишь черты различаю их мутно,
обреченно живут покоренные люди земли,
со следами на шее вульгарной бесовской петли,
в ощущении неба сердца их сгорают, как свечи,
богоборцы идут на растопку в поганые печи,
после сна подойду к живописной рублевской иконе,
выдыхая молитву душа моя жалостно стонет,
на колени в халате меня в покаянье уронит,
и движением правой руки лоб смиренно расколет.
Я надеюсь дожить до порфиры и службы пасхальной,
я надеюсь воскреснуть однажды глаголом модальным,
а пока пост Великий меня возвратил в яйцеклетку,
очищая грехи, как вареную чистят креветку,
от страдания, страха и боли, почти что я спятил,
весь теперь состою из магически правильных вмятин,
умираю, как гриб, и в такую же меру живу,
меня давит к земле, там внутри я опять оживу,
нож стальной я воткну выше плеч, глубоко, как смогэ,
я червивую глотку свою и язык отделю,
обнаженную правую руку затем отрублю,
постепенно всю кожу и мясо с нее я сниму,
кости пальцев железным крестом навсегда я сложу,
и на нем я себя умозрительно, верно распну.
Отдаляются руки от рук, нарекаясь движеньем,
в каждом шаге чужом нахожу я свои отраженья,
шелестящие строки газет постигая с рожденья,
в коридорах глухих я теряю свое поколенье,
утопая в крови и слезах, обретая спасенье,
и стирая слова и сомненья, как личные мненья,
прохожу по осклизлым телам и осколкам лекал,
поспешая к апостолам на редколлегию скал,
и за дужки очков я снимаю глазницы тугие,
промывая слезами глаза отреченно слепые,
разделяю себя на отдельные судные штаммы,
отрекаясь от тех, что похожи на темные штампы,
ночь сереет на ощупь, сжимая объем до пространства,
превращая дорогу домой в покаянные стансы.
Сквозь туман не один я на пристань приду по утру,
на дощатый причал тяжело наступаю в снегу,
я вчера пропущу, а в сегодня войду на ветру,
я на нарах лежал, постигая чужую судьбу,
и от голода хлеб проступил на столе, как слова,
и на память растаял во рту, как щербет и халва,
мое нищее сердце здесь тихо и праведно дышит,
но коллоидный воздух свободы раскольника душит,
на закате морской горизонт жжет меня из окна,
и встают острова, пламенея, из моря огня,
на прощанье монах черепную коробку мою
на ходу пробивает копьем, убивает змею,
убедившись, что мысли мои строем прут на войну,
в Белом море проход мне откроет в святую страну.
Деревянные волны скрипят, когда лодка их давит,
лабиринт от стопы преподобной вминается в гравий,
на Секирной горе ангел крошит людей без разбора,
Соловки закрывая Христовым крестовым запором,
как младенцы смеются и плачут о чем-то бездумно,
так Савватий, Зосима и Герман от Бога премудры,
прогибается кость и под тяжестью плющит глаза,
они падают ниц, и текут за слезою слеза,
открывается им коридор между взглядом и небом,
и для них нет различия между молитвой и хлебом,
солнце плавит висок, а мороз раздражающе горек,
пустота и тоска измеряются бездною моря,
а по кельям грехи шевелятся, как пули в затворе,
разрывая сердца, будто рвут корабли льды в заторе.
Я изумрудные сады коротким словом нарекаю,
политые вином из винограда неземного рая
зеленые деревья из камней гранитных вырастают,
незримый надо мною свет ночной осмысленной звезды
меня зовет к себе, на счастье и печали обрекая,
замшелые кресты вокруг часовни старой освещая,
беспечно я иду, по капле на дорогу вытекая,
вдруг ненароком натолкнусь на взгляд свой из густой листвы,
с двумя детьми присяду кромкой ладожской тугой воды,
срывает ветер мои мысли, как созревшие плоды,
и кулаком волна насквозь душевный хлад мой прошибает,
меня забытым с детства голосом утробным наделяет,
и вновь вкруг плещет озеро и размыкается в круги,
пытаясь ухватить весло в свои зыбучие тиски.
В старшей дочке моей отражается голод вселенной,
в повороте лица вдоль оси головы отстраненной,
и в глазах, что подобно раскидистым веткам мимозы,
расцветая душевно, становятся нежно раскосы,
и от веера пальцев отчетливо хрупко скроенных,
и от мыслей и чувств неподдельно и чутко сложенных,
веет явным, безмерным талантом девичьей любви,
в такт играет бессмертное сердце в созревшей груди,
и когда она страстно и нервно, причудливо слышит,
то в зрачках пробегают округлые черные мыши,
восстают из души неимущие образы детства,
и вселяются в Аннушкин взгляд огневой по соседству,
вслед слетаются ангелы трудной походкой борцовской,
и к лицу прикасаются страждущей дланью отцовской.
Ася, дочь моя, вышла вторая из Гроба Господня,
споспешествовал ангел ей, словно духовная сводня,
сквозь пропахшую зноем природу мы тихо струились,
по дороге домой мы отвесно горе накренились,
это ясно теперь, когда тени назад устремились,
что натужно тогда мы друг другу в любви объяснились,
ночью волглая нас приютила земля, и в лесах,
осыпая листву, колотилась в припадке гроза,
утром гимн прорыдала советский истошно страна,
и померкла звезда, выжигая клеймо на спине у меня,
и река, как рука, устремилась вперед в продолженье тебя,
и вросла в облака, как лучи от воды, голытьба,
и возвысился голос слепого, глухого отца,
расширяя язык и слова, как от страха глаза.
Веру, третьей спасал, принимая головку из чрева, —
всю в крови и с безмолвно разинутым маленьким зевом,
я стоял меж согнутых коленей разверстой вселенной,
восторгаясь душою и телом жены обнаженной,
сквозь страдание, боль, отторжение блудней сатира,
происходит рождение тайного нового клира,
покаянные слезы рожениц мерцают в груди,
их могучие кости скрипят, сотворяясь земли,
из их нежных глубин, подвывая, хрипя и корежась,
дети лезут на свет, разрывая руками промежность,
поколеблена плоть, не людская в младенцах надежность,
опираясь на трость, бродит ангел меж ними мятежный,
некрещеные души младенцев в прицеле он держит,
кто-то будет, как он, до скончания мира повержен.
Я предвидел ребенка, бессильно молчащим прекрасно,
постижимо страдает Мария, мерцая так ясно,
проплыву подо льдом, шевеля на лице плавниками,
и ударившись оземь, явлюсь я к принцессе стихами,
горько я погляжу сквозь людей, их детей и просторы,
и войдут в их миры мои мысли, как наглые воры,
демонический оттиск рукой перебью в головах,
три креста нарисую с угрозой молитвы в зубах,
косоглазая глянет старуха на стуле в халате,
присосавшись в мой след, не пускает к палате,
затокует, закружится ум, как глухарь в поднебесье,
настигая слова, напрягаясь, гремя, как из жести,
и земля потечет, и Египет предстанет, как плоскость,
придают ей святые фигуры известную жесткость.
Мы вернемся, и в снежном лесу я устрою засаду,
посажу я больницу в лесу, как простую рассаду,
соберу я вокруг живородную смрадную падаль,
мертвотварную нубель сожгу вместо тех, кто не падал,
всем я дам имена, возрождая их хладные души,
нарисую глаза голубые и детские уши,
и с костей соскребу их гнилые больные тела,
в чистый рот им вложу полнокровный язык и слова,
и в людей превращу эти сладкие спелые туши,
их вчерашний порядок и мир я наверно разрушу,
сквозь снега проложу я на север дороги прямые,
погоню я туда эти толпы мятежно слепые,
по пути с сатанинскою тенью столкнусь в состязанье,
отрублю ей башку, несмотря на ее обаянье.
Между домом и тенью от дома есть линия дома,
всякой ночью сюда тороплюсь, Гавриилом ведомый,
круглый год у крыльца здесь играют и скачут блудницы,
на могилах танцуют их тени, как адские жрицы,
и за деньги ведут вавилонских блудниц к колесницам,
посыпают их солью, сажая ночами в темницы,
здесь под снегом лежит почерневшая в мыслях листва,
а на землю с дождями стекает святая вода,
и сжимая в руке предпоследнюю лепту вдовицы,
я иду, наступая в следах на следы от ресницы,
узнавая из книги любовные мысли девицы,
взгромыхают в руке моей белые спички, как спицы,
подожгу я фитиль у лампады, как вечное чудо,
так спасусь благодатным огнем я от свального блуда.
Не рожденные дети во мне, как в реторте бурлят,
как удобно – они и не пьют, не едят, но не спят,
они вечно мне в сердце, в мозги и в мошонку стучат,
и по ним мои чувства отца завсегда голосят,
мне так страшно порой, что я их никогда не любил,
оттого что их мне никогда и никто не родил,
как нельзя отменить казнь Петра на окраине Рима —
не удастся страдание скрыть под гримасою мима:
у одной неврожденной жены волосатый живот,
у другой слишком нежная рожа, пленительный рот,
а у третьей – промежность в глазах и изъязвленный бок,
все, писать не могу – нормативный кончается слог;
я, конечно, от женщин красивых совсем не устал,
но с какой же я страстью троих абортанок послал.
Похож немного Крым степной на выжженный в уме Израиль,
и горько холодит рассвет, дотрагиваясь до окраин,
мы поднимаем голову от плеч, и расправляем плечи,
а плечи, будто крылья альбатроса в море, бесконечны,
а скалы по краям изъеденных равнин чуть рахитичны,
черту судьбы между водой и небом чертят так тактично,
что, кажется, уж нет нужды куда-то плавать и идти,
а остается только прыгнуть вверх и по небу грести,
причудливые женщины и здесь изысканно двуличны,
но только здесь лавандой пахнут их тела почти первично,
когда в ночном стогу колени раздвигаешь, словно горы,
а звезды в спину тычутся, как будто чьи-то злые взоры,
переливаешь тогда ночь, как из ведра холодную водицу
вливаешь в кипяток, чтоб остудить надменную девицу.
У могилы Толстого не ангелы плачут, а жабы орут,
не один приходил я сюда, совершая душевный кашрут,
совратив предварительно деву гнедую в вонючем вагоне,
шел сюда по росе, созерцая часы на короткой ладони,
в запрещенную ныне лапту с первоцветом ольхою играя,
и, как шлейф за невестой стелясь потихоньку, ликуя, летая,
сквозь туман, что разлегся, скрывая следы на примятой траве,
и сутулую тень человека, горящего утром в огне,
я очнулся вчера головой на коленях толстушки Ребекки,
в темной комнате в черном провале времен возлежали мы вместе,
вспоминая о том, как вчера, не из правды, а просто из мести,
первородство украл у Исава Иаков, любимчик Ревеки,
и ушел, как трамвай, дребезжа в поворотах причудливых линий,
безнадежно сминая на рельсах предутренний искристый иней.
Она любила апельсины, и ела их почти в бреду,
ломая дольками картинно в кафе на «Чеховской» в углу,
чуть вздрагивая телом белым, как засыпая на снегу,
роняя слезы врозь и купно, шепча в дебелую луну,
и взглядом рассекая спешащую по Дмитровке толпу,
передавала глухо мне снов своих звериную тоску,
глаголы слов чуть шевелились в воздухе половозрелом,
шипя, согласные струились медленно из губ неспелых,
я ж наслаждался видом тела, предчувствуя свои грехи,
и мелом, проводя по коже, забеливал все волоски,
я был жесток, как корабелы, приковывая нас к веслу,
по линии ветхозаветного надреза лицом к лицу,
по кромке шли пленительной могилы к крещению любви,
увы, растаяли, как крысы, в той заповеданной глуши.
Я ничего не говорю, когда в том надобность отпала,
но птица мертвая на площади в Германии лежала,
мне третья птица за три дня под ноги мертвая попалась,
шум смерти перебив, мелодия любви вдруг зазвучала,
я в деревенской кирхе на колени встал, взобравшись в горы,
представил я себя, как я молитвой рою в небе норы,
и светом неземным наполнилась, как лампа из стекла,
в телесном зримом облике моя бессмертная душа,
и руку ангела, едва дотронулся, поцеловала,
и в плоскости его незримого лица возликовала,
и вместе с душами немецкими здесь в Айфеле восстала,
из камня, роз и хлеба, нарезая вечные лекала
для всех солдат, ушедших в бой под звук органного хорала,
схороненных под небом голубым отсюда до Урала.
Не отрываясь от нагой, неведомо ему нагой, груди,
прикидывая круг руки, и щеря будущие зубы,
прислушиваясь к «Отче наш…» на литургически прямом пути,
на кириллическую вертикаль нанизывая губы,
придерживаясь вестника сценически осмысленной руки;
прорубаясь, как ангельский зонд, сквозь желудок небесного свода,
сын по тюрьмам пройдет и приходам, исцеляя повсюду уродов,
как герой, пешеходом пойдет и к другим непонятным народам,
открывая славянам тропарь и слова бесконечного рода;
на утро с сестрами к востоку полетит он, нежно розовея,
и перекидывая звезды из конца в конец, как патефон иглу,
взлетит фигурой ввысь, как знамя христианское, победно рдея,
закручивая слоги корневые, ровно херувим меча строку,
в начале всех времен он встретит Троицу Лица лицом к Лицу.
Сквозь пустоту и годы, к неведомому мне тогда кресту,
в последнем электрическом вагоне, истерзанный, в бреду,
я ехал, истекая болью, в лампадную свою Москву,
и бледное лицо, издергав ролью, я прислонял к стеклу,
шел дождь, и линии надгробий укатывались в черноту,
темнея, тяжелели розы, листом взбухая на ветру,
пока я нес их к дому, рукой удерживая на весу,
и утром женщина земная, на «Кропоткинской», у двери,
крестильную мою рубаху комкала на самом деле,
а в храме воду грели для алюминиевой купели,
разогреваясь, певчие молитвенно о чем-то пели,
пресвитер требник старый проверял, похоже что без цели,
Господь меня спокойно ждал, бродя, как нищий по панели,
и с дерева вороны на Его присутствие глазели.
2005–2007
Двунадесятый венок сонетов