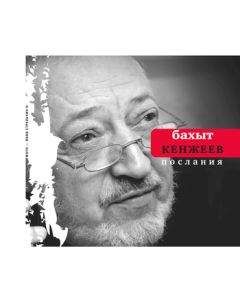Бахыт Кенжеев - Невидимые
Новые стихотворения 2000–2003 годов
***
Говорят, что время — река. Тогда человек — ручей,
что уходит внезапно под почву — и нет его.
Остаются сущие мелочи, вроде ключей
запропастившихся, не говоря уж о
изгрызенной трубке, очках, разговорах о воскреше —
нии Лазаря (квалифицирующемся как бред,
нарушающий все законы физики). По чужой душе
без фонаря не побродишь, а фонаря-то и нет.
Говорят, что носивший музыку на руках
и губивший ее, как заурядный псих,
несомненно, будет низвергнут в геенну, как
соблазнивший кого-то из малых сих.
А еще говорят, что смерть — это великий взрыв.
Ничего подобного. Или я ошибаюсь, и
второпях ночную молитву проговорив,
даже грешник становится равен своей любви?
За колючей проволокой земной тюрьмы,
за поминальным столом с безносою, в многотрудный час
подземельных скорбей, без ушедших мы
кое-как выживаем — но как же они без нас?
***
Все ли в мире устроено справедливо?
Протекает в лугах река, а над нею ива,
То роняет листья, то смотрит в ночную воду,
Не спеша оплакать свою свободу.
А над нею звезда лесов, блуждающая невеста
Молодому камню, себе не находит места,
Тыркается лучами в пыль, и, не зная солнца,
Неизвестно куда, неизвестно зачем несется.
А над ней человек — никому не муж, не любовник,
Он свечу восковую сжимает в зубах неровных,
Нерадивый хозяин неба, незаконный владелец суши,
Указательными он зажимает уши,
Распевает под шум ветвей, босою ногой рисуя
Черный крест на песке, никому особо не адресуя
Ни огня своего, ни ненависти, ни печали.
Сколько раз мы с тобою его встречали —
Сколько раз воротили взгляд перед тем, как зябко
Бросить монетку в его пустую овечью шапку…
***
Жительница ночных поездов, ты и сейчас еще молода, но
мы не виделись слишком долго. Должно быть, прекрасной дамой
многие числят тебя доселе, хотя изменилось, как говорится, многое
с той поры, когда над Обводным каналом, словно Астарта, луна двурогая
ухмылялась. Была ты в те годы сущей монашкой. Очи держала долу,
щурясь, сутулилась, говорила мало. Столько несчастий
рушилось на тебя, что я думал: эту Господню школу
кончить дано не всякому, и дергался, когда черной масти
кони, кружась, мимо тебя пролетали, и — почему-то левой — рукою
ты от них отмахивалась. Много плакала. Помидоров
и огурцов не выносила, как и арбузов, впрочем.
Одевалась из «Детского мира». Любила морские камни. Разговоров
о грехе не терпела. Молилась. К началу ночи
очевидно грустнела. Школьною ручкой писала стихи о Риме,
где не бывала, считая, однако, что именно там Франциск Ассизский
проповедовал сойкам и чайкам. Съездишь, вернешься — поговорим и
выясним все неточности и ошибки. Вновь месяц низкий
над горизонтом мерцает, алея, как медное солнце мертвых.
И не припомнить, нет, не припомнить, что было во-первых, а что в-четвертых.
Ты кивала, когда вопрошал я — простила ли, не простила.
А через десять лет отомстила — как же ты мне отомстила!
***
Вот замерзающая Волга. Вот нож, Евангелие, кровать.
Ты уверяешь, что недолго осталось им существовать.
Ты повторяешь, взор сужая, что мучающее нас во сне,
бесспорно, правда — но чужая. А явь — на вороном коне
четвертый всадник, имя коему я не смогу произнести,
хотя тревоги и покоя мне тоже хочется. Свисти,
степной разбойник, разверзайся, небесный свод. И льва, и зайца,
и горлицу, и всех иных простуженных зверей земных
к вратам заснеженного рая, ничьей вины не разбирая,
уже ведет среди могил серьезный ангел Азраил
под звуки песни колыбельной. Но слов ее издалека
не услыхать. Лес корабельный сведен. Усердствует река,
течет река, точильный камень по дну глубокому влача,
где беспокойно дремлет Каин — один, без плача и врача…
***
Должно быть, я был от рождения лох,
знай грезил о славе, не пробуя малым
довольствоваться, памятуя, что плох
солдат, не мечтающий стать генералом.
Но где генералы отважные от
российской словесности? Где вы, и кто вам
в чистилище, там, где и дрозд не поет,
ночное чело увенчает сосновым
венком? Никаких золотых эполет.
Убогий народ — сочинители эти.
Ехидный Лермонтов, прижимистый Фет,
расстроенный Блок, в промерзшей карете
из фляжки глотающий крепкую дрянь
(опять сорвалось, размышляет, тоскуя),
при всей репутации, бедный, и впрямь
один возвращающийся на Морскую…
Да что, если честно, накоплено впрок
и вашим покорным? Ушла, отсвистела.
Один неусвоенный в детстве урок,
губная гармошка, да грешное тело.
Как будто и цель дорогая близка —
но сталь проржавела, и в мраморе трещина:
Что делать, учитель? Твои облака
куда тяжелее, чем было обещано…
***
Где цвела герань под писк воробья, где в июне среди аллей
жгли тополиный пух сыновья шоферов и слесарей —
там царь Кощей над стихами чах, как всякий средний поэт,
не зная, сколь трудно писать о вещах, которым названья нет.
Ах, время, время, безродный вор, неостановимый тать!
Выходила на двор выбивать ковер моя молодая мать, —
а меня Аполлон забирал в полон, кислоты добавив к слезе,
и вслепую блуждал я среди колонн, вокзалов и КПЗ.
Блажен, кто вопль из груди исторг, невольно укрыв плащом
лицо; блажен возвративший долг, который давно прощен;
блажен усвоивший жизнь из книг, а верней сказать, из одной
книги. И жалок ее должник, с громоздкой своей виной
не в силах справиться. Как спасти неверующего? Где он
поет, растягивая до кости военный аккордеон,
когда мелодия не в струю, о том, что давно прошло,
как было холодно в том краю, и ветрено, и тепло?
***
То зубы сжимал, то бежал от судьбы,
как грешников — бес, собирая грибы
на грани горы и оврага.
На вакхе венок, под сосной барвинок,
и ты одинока, и я одинок
в объятиях бога живаго.
И ты говорила (а я повторил)
том, что непрочные створки раскрыл
моллюск на незрячем коралле.
Язычнику — идол, спасенному — рай.
Ты помнишь, дворец по-татарски — сарай,
а время бежит по спирали?
Ты все-таки помнишь, что всякая тварь
при жизни стремится в толковый словарь,
обидчику грех отпуская,
в просоленный воздух бессонных времен,
где света не видит морской анемон
и хищная роза морская.
По улице лев пролетает во мгле,
кораблик плывет о едином весле,
и так виноградная водка
тепла, что приволье эфирным маслам,
взлетев к небесам, обращаться в ислам,
который не то чтобы соткан
из вздохов и слез, но близко к тому.
Рассеивая неурочную тьму,
созвездия пляшут по лужам.
И вновь за углом остывает закат,
и мертвой душе ни земной адвокат,
ни вышний заступник не нужен.
***
Зря уговаривает меня подруга — живи, не трусь.
Сгрызла ее адресата апатия, словно сыр молодые мыши.
Раньше хотя бы читал перед сном, а теперь ленюсь,
только слушаю тяжкий рок, доносящийся от соседа выше
этажом сквозь ветхие перекрытия. Сколько их,
невозвратных потерь, размышляю, не засыпая. Факты —
вещь упрямая. В узких ботинках, в седой бороде, на своих двоих
я еще прихрамываю, но уже мне мстительно пишут: как ты
постарел на последней фотке! Удивляясь сухому рассвету, пошарь
по сусекам, авось на какой колобок и сыщешь,
размечтавшись. О мой бедный, бедный октябрь, кто ты — стеклянный царь
времени, или так, кладовщик, не выдающий духовной пищи
нищим духом? В зрительном ящике деловой
индекс падает, жупелов — что в безлюдном поле
перепелов, от сибирской язвы до тепловой
смерти вселенной. Сложить ладони и замолчать. Давно ли
не было стыков на рельсах, тикали в изголовье часы,
в белых палатах больные тихо листали книги и не
умирали, и начинался мир по-якутски, на букву «ы»,
совершенный, как спелое яблоко или дыня…
***
Се, осень ветхая все гуще и синей
в моем окне. Багровый лист в тетрадке
почти истлел. Есть только ноты к ней —
что нефть без скважины, что искра без взрывчатки,
и я, усталый раб, мурлычущий не в лад
сухую песенку, и крутится немое
кино — мой путь уныл, сулит мне труд и глад
грядущего волнуемое море.
А там посмотрим. Под иной звездой,
щемящей, теплой, что еще бесценней
светила нашего, захвачен чередой
неотвратимых перевоплощений,
то в пса, то в камень… Карма! Да, мой путь
уныл. А вот не стыдно. Зря ты, ветер,
твердишь мне это вечное «забудь».
Я уж и так забыл, ей-Богу, все на свете.
Вот ножницы, игла, вот справка, что почем,
да к той игле — сапожных черных ниток.
Вот повторяю вслед за скрипачом —
гробостроителем — «один сплошной убыток».
И смех, и грех. Поздравим молодых.
Запретное, не умирая, имя
произнесем. Мой лоб, и губы, и кадык
ощупывает пальцами сухими
слепое время. С нею ли, не с ней
(святой Марией), милые, куда вы,
когда в окне все мягче и синей
разбавленные холодом октавы?
***
Ах ты моя коза. Отчего ты дышишь едва,
словно тебе утробу взрезали без наркоза?
Чем мне тебя утешить? Мечет икру плотва,
ищет гиена падали, человек проливает слезы.
Некое существо в высоте между тем, скучая, осанну
распевает, крылами бьет, бесплотные маховые перья
роняет на дольнюю землю, и неустанно
подсматривает за нами, с тревогой и недоверьем
обнаруживая, что сапиенс и шакал
много ближе друг к другу, чем думалось, что в неволе
оба страдают депрессией, что зверинец уже обветшал,
клетки смердят, экспонаты вышли из-под контроля.
И спускается, и является сирым, убогим, и, любя,
проповедует бунтовщику смирение, уверяя, что смерть — малина
с шоколадом. А адресат не слушает, думая про себя:
хорошо, что не чучельник с банкою формалина.
В средней полосе между тем закат, и слышит бездомный зверь
спорщиков у костра. На еловых ветках кровавые тени.
Череда потерь, горячится один, череда потерь,
а другой, усмехаясь в усы, возражает: приобретений.
Несправедливо, твердит один, сплошная наколка. Где
искупление? Нет, отвечает другой, в этом вопросе не
хватает корректности. Ведь ты не идешь к звезде
осведомляться о смысле поздней, допустим, осени?
Кто же этот невидимый зверь? Бурундук? Лиса?
Или тот же ангел, бестелесный и, как водится, вечно юный?
Кто-то третий берет гитару, и низкие небеса
отзываются, резонируют, особенно на басовые струны.
Прописали же нам лекарство — то ли водки сколько-то грамм,
то ли неразделенной, то ли счастливой страсти.
Догорает закат, как деревянный храм.
И пророк Иона сжался от страха в китовой пасти.
***
I.
Надоело, ей-Богу, расплачиваться с долгами
говорит человек, и неласково смотрит в стену,
из газетной бумаги наощупь складывая оригами —
радиоактивный кораблик, распутную хризантему.
Засыпал скульптурою, а очнулся — посмертным слепком,
и полуслепцом к тому же. В зимний омут затянут,
поневоле он думает о государстве крепком,
где журавли не летают, зато и цветы не вянут
без живой воды. И нет ему дела до акварели,
до спирали, до снежных ковров, до восстания брата
на другого брата. «Отмучились, прогорели»,
шепчет он, слушая разговор треугольника и квадрата.
II.
Сей безымянный тип, неизвестно какого роста,
неизвестной нации и политических убеждений,
призван являться символом того, как непросто
выживать после определенного возраста. В плане денег
все нормально, здоровье, худо-бедно, в порядке,
по работе — грех жаловаться, взлет карьеры.
Наблюдаются, правда, серьезные неполадки
в отношении трех старушек — надежды, любви и веры,
да и матери их, Софии. Страхам своим сокровенным
воли он не дает, и не ноет — умрет скорее,
и толчками движется его кровь по засоренным венам,
как обессоленная вода сквозь ржавую батарею.
III.
Поговорим не о грифе и вороне, а про иную птицу —
про сороку на телеграфном проводе (как эти белые пятна
на угольно-черных крыльях заставляют блаженно биться
приунывший сердечный мускул!). А на пути обратно
она уже улетит, сменится красноклювым дятлом, или
рыжею белкой. Впрочем, я видел и черных, с блестящим мехом,
помню одну, бедняжку, с непокорным лесным орехом
в острых зубах. Право, беличья жизнь — не сахар,
и попросила бы человека помочь, да страха
не превозмочь. Что у тебя на сотовом? Моцарт? Бах?
Ты ошибся, зачем мне сотовый? И возлюбленной нету рядом.
Пробираясь сквозь голые сучья, будя бездомных собак,
Занимается зимний рассвет над тараканьим градом.
IV.
Не отрицай — все содержание наших эклог и иных элегий,
особенно в сердце зимы, когда голос тверд, словно лед, —
лишь затянувшийся диалог о прошлогоднем снеге
с провинившимся ангелом тьмы, а его полет —
неуверен, как все на свете. Завороженный им,
будто винными погребами в Молдове или Шампани,
понимаешь вдруг, что и собственный твой итог сравним
с катастрофическими убытками страховых компаний
после взрывов в Нью-Йорке. И это пройдет, хочу
подчеркнуть. Ангел света, прекрасный, как жизнь нагая,
зажигает в ночи керосиновую лампу или свечу,
никаких особых гарантий, впрочем, не предлагая.
V.
Заменить оберточную на рисовую, и всласть
складывать аистов, изображая собой японца
двухсотлетней давности. Что бы еще украсть?
Сколько ни протирай очки, не увидишь ночного солнца,
да и дневное, бесспорное, проблематично, хотя его
и не выгнать, допустим, из пуговиц-глаз Елены,
плюшевой крысы, подаренной мне на Рождество,
и с горизонта белого. Не из морской ли пены
сложена эта жизнь? Не из ветра ли над Невой?
Или я не апостол? Или воскресшие до сих пор в могилах?
Или и впрямь световой луч, слабеющий и кривой,
притяжения черных звезд побороть не в силах?
***
Сносился в зажигалке газовой,
пластмассовой и одноразовой,
кремень — но отчего-то жалко
выбрасывать. С лучами первого
декабрьского солнца серого
верчу я дуру-зажигалку
в руках, уставясь на брандмауэр
в окне. Здесь мрачный Шопенгауэр —
нет, лучше вдохновенный Нитче —
к готическому сну немецкому
готовясь, долгому, недетскому,
увидел бы резон для притчи,
но я и сам такую выстрою,
сравнив кремень с Господней искрою,
и жалкий корпус — с перстью бренной.
А что до газового топлива —
в нем все межзвездное утоплено,
утеплено, и у вселенной
нет столь прискорбной ситуации…
Эй, публика, а где овации?
Бодягу эту излагая,
зачем я вижу смысл мистический
в том, что от плитки электрической
прикуриваю, обжигая
ресницы? А в небесном Йемене
идут бои. Осталось времени
совсем чуть-чуть, и жалость гложет
не к идиотскому приборчику —
к полуночному разговорчику,
к любви — и кончиться не может…
***
С.Г.
Соляные разводы на тупоносых с набойками
(фабрика «Скороход»).
Троллейбус «Б» до школы, как всегда, переполнен
пассажирами в драпе, с кроличьими воротниками,
но до транспортных пробок еще лет тридцать, не меньше.
Поправляя косу, отличница Колоскова (с вызовом):
«Как же я рада,
что каникулы кончились — скукота, да и только!»
«О, Сокольники!» — думаю я, вспоминая сырую свежесть
беззащитных и невесомых, еще не проснувшихся
мартовских рощ.
Последняя четверть