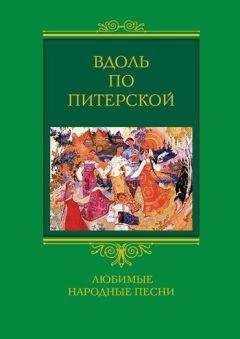Александр Владимирович Соболев - Бухенвальдский набат
1974
* * *
Течет с березы сок,
струится сок из сосен.
И день, и ночь в горах шумит поток.
Пчела — с летка к цветку
и снова на леток...
К закату лето. Скоро грянет осень...
А я молчу, как будто занемог,
как будто душу запер на замок
и навсегда стихи писать забросил.
Что — дерево без сока и в бесплодье?
Что — вешняя река без половодья?
Что — без пыльцы летящая пчела?
Как от сгоревшего костра зола,
ненужно и мертво и то, и это...
Так что ж тогда молчанье для поэта?
1974
* * *
Сосна росла,
сосна цвела,
и вдруг,
под самый дых,
под корень,
ей впилась пила —
и нет ее в живых.
Лежит
прямая как струна,
до веточки обрублена.
К чему, зачем теперь она
без времени загублена?
Мне жаль ее.
Печален взор...
Но вижу:
плотник кряжистый
умело взялся за топор —
и бревна в стены вяжутся,
и дом встает
сосне под стать,
стоять ему столетие.
Рождаться будут, вырастать,
в нем дети, как соцветия...
А если в срок или не в срок
погибнуть нам достанется —
какой от нас посмертно прок
и что живым останется?
1974
* * *
Когда б я был один за то в ответе,
без красных слов, костьми я смог бы лечь,
чтобы зверье и птиц сберечь
на этой обезумевшей планете...
1974
ИЗГНАНИЕ СОВЕСТИ
Такое может лишь присниться
в тиши удушливых ночей:
по черной воле палачей
навек оторван Солженицын
от кровной Родины своей.
Его бы с радостью казнили,
сожгли, развеяли бы прах.
Но всемогущее насилье
внезапно замерло в бессилье:
остановил насилье — страх!
О нет, не пред своим народом:
запуган он и безъязык.
Века не знающий свободы
под этим мрачным небосводом
властям перечить не привык.
Не раз прореженный жестоко
то ГПУ, то КГБ,
по сути смелый и широкий,
под хищным полицейским оком
замкнулся он в самом себе.
Его давил сапог тирана,
под дых железный бил кулак,
его сынов, согласно плану,
безвинных гнали на закланье
на тот архипелаг ГУЛАГ,
где мучились не единицы,
а полумертвых легион,
нещадно битых, бледнолицых...
И среди них был Солженицын,
и так же горе мыкал он.
...И сын Руси надел вериги.
Его клокочущие книги,
сверкая, обнажили зло,
насилья мерзкое обличье
и ужасающим оскал.
И хлынул свет за пограничье.
Пред миром, в жертвенном величье,
писатель Солженицын встал.
За правду, за разоблаченье
суров верховный приговор,
в печати — злобное гоненье,
завыл в зверином исступленье
ничтожных подхалимов хор.
Был посрамленью и наветам
«придворными» подвергнут он,
и очернен, и оклеветан.
Близка беда по всем приметам.
Арест... конвой и... за кордон!
Изгнанье! Кары горше нету!
Однако жив он, не убит,
и имя честное над светом
неуходящею кометой
как символ совести горит.
И ни к чему в продажном стане
теперь победно руки трут.
Пора придет, и час настанет,
неотвратимо суд нагрянет,
не Божий — всенародный суд!
Ублюдки под державной сенью!
Вельможи! Холуи вельмож!
О нет! Не будет вам спасенья,
ответите за преступленья,
и за насилье, и за ложь,
за все заплатите сторицей!
Я быть пророком в том берусь:
да возвратится Солженицын
в свою любимую столицу,
в свою воспрянувшую Русь!
1974
* * *
Сегодня, надеждой объятый,
в предчувствии светлых свобод,
встречаю я семьдесят пятый
вот-вот наступающий год.
Все мною испытано в меру.
Сверх меры познал я беду,
я верю,
я верю,
я верю:
все сбудется в новом году.
Удача придет непременно,
и будет душе веселей:
я вырвусь из долгого плена,
отпраздную свой юбилей
под небом высоким и синим,
быть может, в далекой дали...
Я — сын Украины, России,
но я — гражданин всей Земли.
1974
* * *
Хранят музеи
слепки рук
великих музыкантов.
В них словно слышен
светлый звук,
навеянный талантом.
Но нет еще нигде пока
тех слепков рук
священных,
какие держат мир
века
трудом обыкновенным.
1974
МАТЬ СОЛДАТСКАЯ
Епистимии Федоровне Степановой,
крестьянке из Краснодарского края,
потерявшей в Гражданскую
и Отечественную войны девять сыновей.
Снег метет,.
снег метет —
завируха.
Ветер песни поет,
иль вызванивает лед,
иль ошибка слуха?..
Мало ли что чудится
путнику в пургу:
будто рядом улица,
кони на бегу...
Снег метет,
снег метет —
завируха...
А по белой степи —
белая старуха
в сумраке идет...
А зачем да куда?..
Эх ты, горе-беда,
ох, беда да горе,
полумрак во взоре.
Были молоды глаза,
ясные, шустрые...
Стали старыми глаза,
мудрыми,
грустными.
...Почему среди степи вьюжной
старуха белая?
Что ей нужно?
Что здесь делает?
Ей сидеть бы
в теплом доме,
возле печки
в полудреме,
шерстяной чулок
вязать
да тихонько напевать.
Жить осталось
малость — старость!
А она, гляди,
без устали,
шагом мерит
просторы русские,
украинские
с-под Кубани —
под стены берлинские..
Неогляден,
необъятен
солдатский погост...
Где родимых
земля приютила?
Может, пять,
может, сто,
может, тысяча верст
от могилы
к могиле?
А старуха —
на то она
мать,
чтоб погибших сынов
навещать...
«То ль ненастно,
то ли ясно,
то ли холод,
то ли зной,
жизнь покуда
не угасла,
я, сынок, всегда с тобой...».
Еле слышно шепчут губы,
повторяют: «Я всегда...»
Руки узловаты,
грубы
от крестьянского труда.
От годов и от кручины
на щеках
легли морщины.
Ну а сердце?..
Сердце старухи:
частые стуки,
шумны и глухи.
Страшными ударами
нещадно битое,
кровью и слезами
мыто-перемытое...
Под кофтою груди
выдул суховей.
А вскормили эти груди
девять сыновей.
Были груди молоды,
полные соков,
и вскормили
молодцев —
к соколу сокол!
От Александра, старшего,
до Саши, меньшого,
спрашивай не спрашивай,
не найдешь такого:
ладные да сильные,
брат похож
на брата.
Всех их
покосили
войны проклятые.
...Необъятен,
неогляден
солдатский погост.
Где родимых
земля приютила?
Может, пять,
может, сто,
может, тысяча верст
от могилы
к могиле...
А старуха,
на то она мать,
чтоб родимых сынов
навещать...
Снег метет,
снег метет —
завируха...
А по белой степи
белая старуха
идет,
идет,
идет...
1974
* * *
Как хорошо идти тропою
прямой и твердой, как гранит.
Как просто смешанным с толпою
шагать, куда вожак велит,
сидеть в ненастье под навесом,
пережидать буран в дому,
болтать цитатами из прессы
и не перечить никому.
Зачем карабкаться к вершине
так, чтоб на коже пот и соль?
К чему и по какой причине
делить чужую скорбь и боль?
Зачем скалой стоять за правду
и без щита таранить ложь,
а получить за то в награду
промеж лопаток мщенья нож?
Но может быть еще похуже:
зажмут, согнут тебя в дугу.
Так почему же, почему же
быть равнодушным не могу?
Вознагражден я или проклят,
что в сердце неуемный жар?
Но не могу вдали с биноклем
глядеть, как дом объял пожар.
Себе не созидаю рая,
а там — хоть не расти трава!..
Я не желаю попугаем
чужие повторять слова.
Давно пошел шестой десяток,
и поуняться бы мне честь!
Но весь, от головы до пяток,
каким я был, таков и есть,
таким и до конца пребуду,
покой лишь признаю во сне.
Бунтуй, душа моя,
покуда,
покуда кровь течет во мне.
Дороги торной
мне дороже
навстречу солнцу крутизна.
Иначе
сердце жить не может.
Иная жизнь?
К чему она?
1974