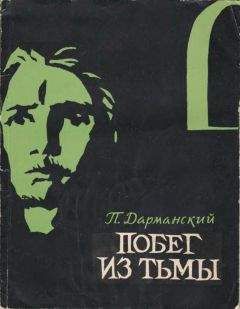Борис Пастернак - «Я понял жизни цель» (проза, стихотворения, поэмы, переводы)
СПЕКТОРСКИЙ
Роман в стихах
ВСТУПЛЕНЬЕ
Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.
Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.
Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.
Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырял немало.
Мандат предоставлял большой простор.
Пуская в дело разрезальный ножик,
Я каждый день форсировал Босфор
Малодоступных публике обложек.
То был двадцать четвертый год. Декабрь
Твердел, к окну витринному притертый.
И холодел, как оттиск медяка,
На опухоли теплой и нетвердой.
Читальни департаментский покой
Не посещался шумом дальних улиц.
Лишь ближней, с перевязанной щекой
Мелькал в дверях рабочий ридикюлец.
Обычно ей бывало не до ляс
С библиотекаршей Наркоминдела.
Набегавшись, она во всякий час
Неслась в снежинках за угол по делу.
Их колыхало, и сквозь флер невзгод,
Косясь на комья светло-серой грусти,
Знакомился я с новостями мод
И узнавал о Конраде и Прусте.
Вот в этих-то журналах, стороной
И стал встречаться я как бы в тумане
Со славою Марии Ильиной,
Снискавшей нам всемирное вниманье.
Она была в чести и на виду,
Но указанья шли из страшной дали
И отсылали к старому труду,
Которого уже не обсуждали.
Скорей всего то был большой убор
Тем более дремучей, чем скупее
Показанной читателю в упор
Таинственной какой-то эпопеи,
Где, верно, все, что было слез и снов,
И до крови кроил наш век закройщик,
Простерлось красотой без катастроф
И стало правдой сроков без отсрочки.
Все, как один, всяк за десятерых,
Хвалили стиль и новизну метафор,
И с островами спорил материк,
Английский ли она иль русский автор.
Но я не ведал, что проистечет
Из этих внеслужебных интересов.
На Рождестве я получил расчет,
Пути к дальнейшим розыскам отрезав.
Тогда в освободившийся досуг
Я стал писать Спекторского, с отвычки
Занявшись человеком без заслуг,
Дружившим с упомянутой москвичкой.
На свете былей непочатый край,
Ничем не замечательных – тем боле.
Не лез бы я и с этой, не сыграй
Статьи о ней своей особой роли.
Они упали в прошлое снопом
И озарили часть его на диво.
Я стал писать Спекторского в слепом
Повиновеньи силе объектива.
Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.
Про мглу в мерцаньи плошки погребной,
Которой ошибают прозы дебри,
Когда нам ставит волосы копной
Известье о неведомом шедевре.
Про то, как ночью, от норы к норе,
Дрожа, протягиваются в далекость
Зонты косых московских фонарей
С тоской дождя, попавшею в их фокус.
Как носят капли вести о езде,
И всю-то ночь все цокают да едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот.
Светает. Осень, серость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папильотки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.
Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис.
Но где ж тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь?
Где сердце друга? – Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то? – Наслышкой.
Да, видно, жизнь проста... но чересчур.
И даже убедительна... но слишком.
Чужая даль. Чужой, чужой из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И, отчужденьем обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник.
1
Весь день я спал, и, рушась от загона,
На всем ходу гася в колбасных свет,
Совсем еще по-зимнему вагоны
К пяти заставам заметали след.
Сегодня ж ночью, теплым ветром залит,
В трамвайных парках снег сошел дотла.
И не напрасно лампа с жаром пялит
Глаза в окно и рвется со стола.
Гашу ее. Темь. Я ни зги не вижу.
Светает в семь, а снег, как назло, рыж.
И любо ж, верно, крякать уткой в жиже
И падать в слякоть, под кропила крыш!
Жует губами грязь. Орут невежи.
По выбоинам стынет мутный квас.
Как едется в такую рань приезжей,
С самой посадки не смежавшей глаз?
Ей гололедица лепечет с дрожью,
Что время позже, чем бывает в пять.
Распутица цепляется за вожжи,
Торцы грозятся в луже искупать.
Какая рань! В часы утра такие,
Стихиям четырем открывши грудь,
Лихие игроки, фехтуя кием,
Кричат кому-нибудь: счастливый путь!
Трактирный гам еще глушит тетерю,
Но вот, сорвав отдушин трескотню,
Порыв разгула открывает двери
Земле, воде, и ветру, и огню.
Как лешие, земля, вода и воля
Сквозь сутолоку вешалок и шуб
За голою русалкой алкоголя
Врываются, ища губами губ.
Давно ковры трясут и лампы тушат,
Не за горой заря, но и скорей
Их четвертует трескотня вертушек,
Кроит на части звон и лязг дверей.
И вот идет подвыпивший разиня.
Кабак как в половодье унесло.
По лбу его, как по галош резине,
Проволоклось раздолий помело.
Пространство спит, влюбленное в пространство.
И город грезит, по уши в воде,
И море просьб, забывшихся и страстных,
Спросонья плещет неизвестно где.
Стоит и за сердце хватает бормот
Дворов, предместий, мокрой мостовой,
Калиток, капель... Чудный гул без формы,
Как обморок и разговор с собой.
В раскатах затихающего эха
Неистовствует прерванный досуг:
Нельзя без истерического смеха
Лететь, едва потребуют услуг.
«Ну и калоши. Точно с людоеда.
Так обменяться стыдно и в бреду.
Да ну их к ляду, и без них доеду,
А не найду извозчика – дойду».
В раскатах, затихающих к вокзалам,
Бушует мысль о собственной судьбе,
О сильной боли, о довольстве малым,
О синей воле, о самом себе.
Пока ломовики везут товары,
Остатки ночи предают суду,
Песком полощут горло тротуары,
И клубы дыма борются на льду.
Покамест оглашаются открытья
На полном съезде капель и копыт,
Пока бульвар с простительною прытью
Скамью дождем растительным кропит.
Пока березы, метлы, голодранцы,
Афиши, кошки и столбы скользят
Виденьями влюбленного пространства,
Мы повесть на год отведем назад.
2
Трещал мороз, деревья вязли в кружке
Пунцовой стужи, пьяной, как крюшон,
Скрипучий сумрак раскупал игрушки
И плыл в ветвях, от дола отрешен.
Посеребренных ног роскошный шорох
Пугал в полете сизых голубей,
Волокся в дыме и висел во взорах
Воздушным лесом елочных цепей,
И солнца диск, едва проспавшись, сразу
Бросался к жженке и, круша сервиз,
Растягивался тут же возле вазы,
Нарезавшись до положенья риз.
Причин средь этой сладкой лихорадки
Нашлось немало, чтобы к Рождеству
Любовь, с сердцами наигравшись в прятки,
Внезапно стала делом наяву.
Был день, Спекторский понял, что не столько
Прекрасна жизнь, и Ольга, и зима,
Как подо льдом открылся ключ жестокий,
Которого исток – она сама.
И чем наплыв у проруби громадней,
И чем его растерянность видней,
И чем она милей и ненаглядней,
Тем ближе срок, и это дело дней.
Поселок дачный, срубленный в дуброве,
Блистал слюдой, переливался льдом,
И целым бором ели, свесив брови,
Брели на полузанесенный дом.
И, набредя, спохватывались: вот он,
Косою ниткой инея исшит,
Вчерашней бурей на живуху сметан,
Пустыню комнат башлыком вершит.
Валясь от гула и людьми покинут,
Ночами бредя шумом полых вод,
Держался тем балкон, что вьюги минут,
Как позапрошлый и как прошлый год.
А там от леса влево, где-то с тылу
Шатая ночь, как воспаленный зуб,
На полустанке лампочка коптила
И жили люди, не снимая шуб.
Забытый дом служил как бы резервом
Кружку людей, знакомых по Москве,
И потому Бухтеевым не первым
Подумалось о нем на Рождестве.
В самом кружке немало было выжиг,
Немало присоседилось извне.
Решили Новый год встречать на лыжах,
Неся расход со всеми наравне.
Их было много, ехавших на встречу.
Опустим планы, сборы, переезд.
О личностях не может быть и речи.
На них поставим лучше тут же крест.
Знаком ли вам сумбур таких компаний,
Благоприятный бурной тайне двух?
Кругом галдят, как бубенцы в тимпане,
От сердцевины отвлекая слух.
Счесть невозможно, сколько новогодних
Встреч было ими спрыснуто в пути.
Они нуждались в фонарях и сходнях,
Чтоб на разъезде с поезда сойти.
Он сплыл, и колесом вдоль чащ ушастых
По шпалам стал ходить, и прогудел
Чугунный мост, и взвыл лесной участок
И разрыдался весь лесной удел.
Ночные тени к кассе стали красться.
Простор был ослепительно волнист.
Толпой ввалились в зал второго класса
Переобуться и нанять возниц.
Не торговались – спьяна люди щедры,
Не многих отрезвляла тишина.
Пожар несло к лесам попутным ветром,
Бренчаньем сбруи, бульканьем вина.
Был снег волнист, окольный путь – извилист,
И каждый шаг готовил им сюрприз.
На розвальнях до колики резвились,
И женский смех, как снег, был серебрист.
«Не слышу. – Это тот, что за березой?
Но я ж не кошка, чтоб впотьмах...» Толчок,
Другой и третий, – и конец обоза
Влетает в лес, как к рыбаку в сачок.
«Особенно же я вам благодарна
За этот такт; за то, что ни с одним...»
Ухаб, другой. – «Ну как?» – А мы на парных.
«А мы кульков своих не отдадим».
На вышке дуло, и, меняя скорость,
То замирали, то неслись часы.
Из сада к окнам стаскивали хворост
Четыре световые полосы.
Внизу смеялись. Лежа на диване,
Он под пол вниз перебирался весь,
Где праздник обгоняло одеванье.
Был третий день их пребыванья здесь.
Дверь врезалась в сугроб на пол-аршина.
Год и на воле явно иссякал.
Рядок обледенелых порошинок
Упал куском с дверного косяка.
И обступила тьма. А ну как срежусь?
Мелькнула мысль, но, зажимая рот,
Ее сняла и опровергла свежесть
К самим перилам кравшихся широт.
В ту ночь еще ребенок годовалый
За полною неопытностью чувств,
Он содрогался. «В случае провала
Какой я новой шуткой отшучусь?»
Закрыв глаза, он ночь, как сок арбуза,
Впивал, и снег, вливаясь в душу, рдел.
Роптала тьма, что год и ей в обузу.
Все порывалось за его предел.
Спустившись вниз, он разом стал в затылок
Пыланью ламп, опилок, подолов,
Лимонов, яблок, колпаков с бутылок
И снежной пыли, ползшей из углов.
Все были в сборе, и гудящей бортью
Бил в переборки радости прилив.
Смеялись, торт черт знает чем испортив,
И фыркали, салат пересолив.
Рассказывать ли, как столпились, сели,
Сидят, встают, – шумят, смеются, пьют?
За рубенсовской росписью веселья
Мы влюбимся, и тут-то нам капут:
Мы влюбимся, тогда конец работе,
И дни пойдут по гулкой мостовой
Скакать через колесные ободья
И колотиться об земь головой.
Висит и так на волоске поэма.
Да и забыться я не вижу средств:
Мы без суда осуждены и немы,
А обнесенный будет вечно трезв.
За что же пьют? За четырех хозяек.
За их глаза, за встречи в мясоед.
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.
В разгаре ужин. Вдруг, без перехода:
«Нет! Тише! Рано! Встаньте! Ваши врут!
Без двух!.. Без возражений!.. С Новым годом!»
И гранных дюжин громовой салют.
«О мальчик мой, и ты, как все, забудешь
И, возмужавши, назовешь мечтой
Те дни, когда еще ты верил в чудищ?
О, помни их, без них любовь ничто,
О, если б мне на память их оставить!
Без них мы прах, без них равны нулю.
Но я люблю, как ты, и я сама ведь
Их нынешнею ночью утоплю,
Я дуновеньем наготы свалю их.
Всей женской подноготной растворю.
И тени детства схлынут в поцелуях,
Мы разойдемся по календарю.
Шепчу? – Нет, нет. – С ликером, и покрепче.
Шепчу не я, – вишневки чернота.
Карениной, – так той дорожный сцепщик
В бреду под чепчик что-то бормотал».
Идут часы. Поставлены шарады.
Сдвигают стулья. Как прибой, клубит
Не то оркестра шум, не то оршада,
Висячей лампой к скатерти прибит.
И год не нов. Другой новей обещан.
Весь вечер кто-то чистит апельсин.
Весь вечер вьюга, не щадя затрещин,
Врывается сквозь трещины тесин.
Но юбки вьются, и поток ступеней,
Сорвавшись вниз, отпрядывает вверх.
Ядро кадрили в полном исступленьи
Разбрызгивает весь свой фейерверк,
И все стихает. Точно топот, рухнув
За кухнею, попал в провал, в Мальстрем,
В века... – Рассвет. Ни звука. Лампа тухнет,
И елка иглы осыпает в крем.
До лыж ли тут! Что сделалось с погодой?
Несутся тучи мимо деревень.
И штук пятнадцать солнечных заходов
Отметили в окно за этот день.
С утра назавтра с кровли, с можжевелин
Льет в три ручья. Бурда бурдой. С утра
Промозглый день теплом и ветром хмелен,
Точь-в-точь как сами лыжники вчера.
По талой каше шлепают калошки.
У поля все смешалось в голове.
И облака, как крашеные ложки,
Крутясь, плывут в вареной синеве.
На пятый день, при всех, Спекторский, бойко
Взглянув на Ольгу, говорит, что спектр
Разложен новогоднею попойкой
И оттого-то пляшет барометр.
И так как шутка не совсем понятна
И вкруг нее стихает болтовня,
То, путаясь, он лезет на попятный
И, покраснев, смолкает на два дня.
3