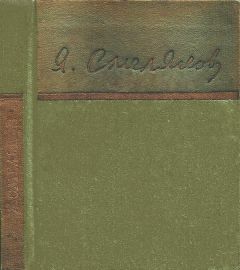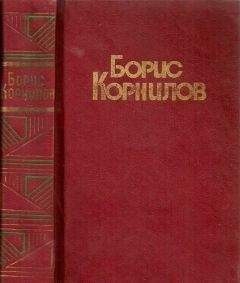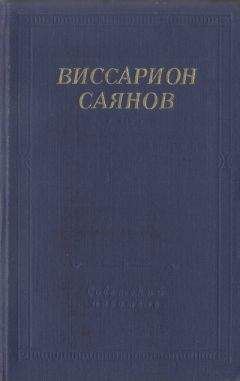Ярослав Смеляков - Стихотворения и поэмы
31. «Я сам люблю дорожную тревогу…»
Я сам люблю дорожную тревогу —
Звонки, свисток и предотъездный гам.
Я сам влюблен в железную дорогу —
В движение вагона по путям.
Я сам люблю состав почтовый, дальний,
Вокзальный свет, молчание друзей,
Прощальный взгляд и поцелуй прощальный,
Прощальный вечер юности моей…
Но поезд тронулся. Неумолимо
Чудесное вращение колес.
Уже в пути, уже застлало дымом
Сиянье милых материнских слез.
И я иду к товарищам вагонным
Включиться в их нестройный хоровод,
Глядеть в окно, зевать, но неуклонно,
Неутомимо двигаться вперед.
32. «Я посвятил всего себя искусству…»
Я посвятил всего себя искусству
на перекрестках не кричать о чувствах —
а всей душою родину любить.
И научился в ровном постоянстве,
как много прежде в упоенье странствий,
свое простое счастье находить.
Так на реке, под крышей ледяною,
укрытая замерзшею волною,
журчит в пути прозрачная волна.
И так же снег, сверкающий и льдистый,
в тиши зимы своим дыханьем чистым
отогревает хлеба семена.
33. «У мертвых рук, над мертвой кровью друга…»
Е. Ф.
У мертвых рук, над мертвой кровью друга,
над смертным сном, у зимнего окна
ты плакала, ты плакала, подруга,
над гробом мужа плакала супруга,
над гробом мужа плакала жена.
Но столько было гордости и силы
и столько билось горечи у рта,
что сердце у меня остановила
и раскроила душу немота.
И с этих пор — куда б я ни кидался,
среди лесов, под небом голубым,
в морозных тучах — я не расставался
с твоей судьбой и с образом твоим.
Как позабыть мне облик величавый!
Он жив. Он движется в душе моей.
И резкий шаг, и взгляд ее лукавый,
и прямота серебряных бровей.
Как оценить неоценимый опыт,
приобретенный женщиной такой
в застенках Польши, в камерах Европы,
на дымных сопках Дальнего Востока —
с оружьем революции, жестоко
зажатым обмороженной рукой.
Прошли года. Глазам своим не веря,
не думая, не зная, что сказать,
всю глубину смятения измерив,
я вновь стою перед знакомой дверью,
забыв о всем, не в силах постучать.
Я вновь пришел. И слушаю, счастливый,
как за дверьми, по-старому легки,
по-прежнему поспешно, торопливо
стучат ко мне навстречу каблуки.
В свой смертный день, забыв наветы злые,
от забытья, от сна за полчаса
я вспомню, вспомню волосы седые
и хитрые мальчишечьи глаза.
34. ПАВИЛЬОН ГРУЗИИ
Кто — во что,
а я совсем влюблен
в Грузии чудесный павильон.
Он звучит в моей душе,
как пенье,
на него глаза мои глядят.
Табачком обсыпавши колени,
по-хозяйски на его ступенях
туляки с узбеками сидят.
Я пройду меж них —
и стану выше,
позабуду мелочи обид.
В сером камне водоем журчит,
струйка ветра занавес колышет,
голову поднимешь —
вместо крыши
небо необманное стоит.
И пошла показывать земля
горькие корзины миндаля,
ведра меда,
бушели пшеницы,
древесину,
виноград,
руно,
белый шелк
и красное вино.
Всё влечет,
всё радует равно —
яблоко и шумное зерно.
Всё — для нас,
всему не надивиться.
Цвет и запах —
всё запоминай.
В хрупких чашках
медленно дымится
Грузии благоуханный чай.
Жителю окраин городских
издавна знакомы и привычны
вина виноградарей твоих,
низенькие столики шашлычных.
Я давно, не тратя лишних слов,
пью твой чай и твой табак курю,
апельсины из твоих садов
северным красавицам дарю.
Но теперь хожу я сам не свой:
я никак не мог предполагать,
что случится в парке под Москвой
мне стоять наедине с тобой
и твоей прохладою дышать.
35. МИЧУРИНСКИЙ САД
Оценив строителей старанье,
оглядев все дальние углы,
я услышал ровное жужжанье,
тонкое гудение пчелы.
За пчелой пришел я в это царство
посмотреть внимательно, как тут,
возле гряд целебного лекарства,
тоненькие яблони растут.
Как стоит, не слыша пташек певчих,
в старомодном длинном сюртуке,
каменный великий человечек
с яблоком, прикованным к руке.
Он молчит, воитель и ваятель,
сморщенных не опуская век,
царь садов, самой земли приятель,
седенький сутулый человек.
Если это нужным он сочтет,
яблоня, хрипя и унижаясь,
у сапог властителя валяясь,
по земле, как нищенка, ползет.
И в его неоспоримой власти
сделать так, мудруя в черенках,
что стоишь ты, позабыв напасти,
захмелев от утреннего счастья
и цветов в зеленых волосах.
Снял он с ветки вяжущую грушу,
на две половинки разделил
и ее таинственную душу
в золотое яблоко вложил.
Я слежу, томительно и длинно,
как на солнце светится пыльца
и стучат, сливаясь воедино,
их миндалевидные сердца.
Рассыпая маленькие зерна,
по колено в северных снегах,
ковыляет деревце покорно
на кривых беспомощных ногах.
Я молчу, волнуясь в отдаленье,
я бы отдал лучшие слова,
чтоб достигнуть твоего уменья,
твоего, учитель, мастерства.
Я бы сделал горбуна красивым,
слабовольным силу бы привил,
дал бы храбрым нежность, а трусливых —
храбрыми сердцами наделил.
А себе одно б оставил свойство:
жизнь прожить, как ты прожил ее,
творческое слыша беспокойство,
вечное волнение свое.
36. БЫК
У меня такое ощущенье,
что, зайдя под этот темный кров,
я услышал шум возникновенья,
тайный шум рождения миров.
Сладкий сумрак заполняет зданье.
Нам пришлось бы двигаться впотьмах,
если бы не легкое сиянье
звездочек на каменистых лбах,
В испареньях розового цвета,
в облаках парного молока
светится, как новая планета,
медленное тулово быка.
37. ВОЗВРАЩЕННАЯ РОДИНА
17 сентября 1939 года части Красной Армии вошли в город Луцк…
Я родился в уездном городке
и до сих пор с любовью вспоминаю
убогий домик, выстроенный с краю
проулка, выходившего к реке.
Мне голос детства памятен и слышен.
Хранятся смутно в памяти моей
гуденье липы и цветенье вишен,
торговцев крик и ржанье лошадей.
Мне помнятся вечерние затоны,
вельможные брюхатые паны,
сияющие крылья фаэтонов
и офицеров красные штаны.
Здесь я и рос. Под этим утлым кровом
я, спотыкаясь, начинал ходить,
здесь услыхал — впервые в жизни! — слово,
и здесь я научился говорить.
Так мог ли я, изъездивший полсвета,
за воду ту, что он давал мне пить,
за горький хлеб, за легкий лепет лета,
за первый день — хотя бы лишь за это —
тот городок уездный не любить?
Нет, я не знал беспечного покоя:
мне снилась ночью нищая страна,
бетонною, враждебною чертою,
прямым штыком и пулей разрывною
от сердца моего отделена.
Я думал о товарищах своих,
оставшихся влачить существованье
в местечках страха, в городках стенанья,
в домах тоски на улицах кривых.
Я вспоминал о детях воеводства,
где на полях один пырей возрос,
где хлеба — впроголодь, а горя — вдосталь
и вдоволь, вволю материнских слез.
Так как же мне, советскому поэту,
не славить вас, бойцы моей земли,
за жизни шум — хотя бы лишь за это! —
хотя б за то, что в желтых тучах света
в мой городок вы с песнею вошли?
38. Я ПОМНЮ ВАС